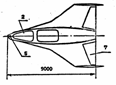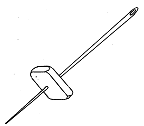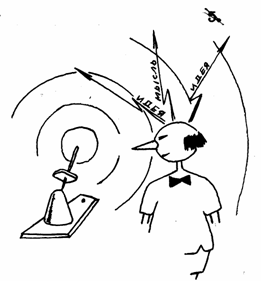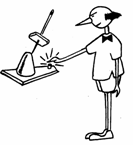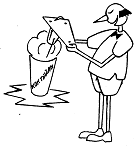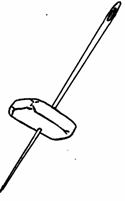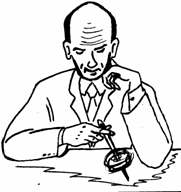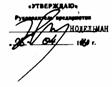Е.
С. КУЛАГА
ОТ САМОЛЕТОВ
К РАКЕТАМ
И КОСМИЧЕСКИМ
КОРАБЛЯМ
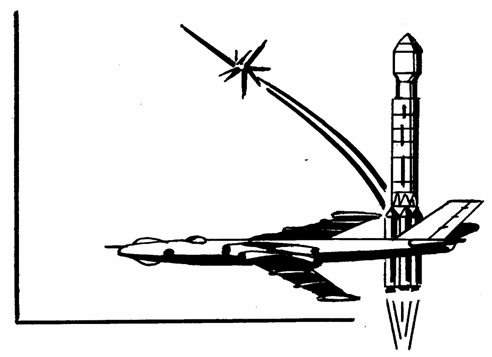
50-летию
ОКБ-23 — ЦКБМФ — КБ «САЛЮТ»
ГКНПЦ им. М. В. ХРУНИЧЕВА
Посвящается
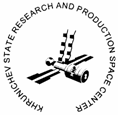
Кулага Евгений Сергеевич
Работает в КБ «Салют» ГКНПЦ им. М. В.
Хруничева с первых дней его образования в 1951 году. Прошел путь от
конструктора до руководителя отделения по разработке конструкции корпусов ракет
и космических кораблей.
Доктор технических наук, главный научный
сотрудник «Заслуженный конструктор России», «Ветеран космонавтики России».
ПРЕДИСЛОВИЕ
Автор этой книги доктор
технических наук, ученый-конструктор Евгений Сергеевич Кулага около 50 лет
проработал в области авиационно-космической техники на одном и том же
предприятии, созданном в марте 1951 года постановлением СМ СССР — особом конструкторском
бюро (ОКБ-23), а ныне КБ «Салют» Государственного космического
научно-производственного центра им. М. В. Хруничева.
В разные годы конструкторским бюро руководили
талантливейший авиаконструктор В. М. Мясищев, выдающийся Генеральный конструктор
ракетно-космической техники В. Н. Челомей, заместитель Генерального
конструктора В. Н. Бутайский,
Генеральные конструкторы Д. А. Полухин,
А. К. Недайвода.
Менялись
руководители предприятия, кардинально менялось и направление его деятельности,
а Е. С. Кулага благодаря широкой эрудиции и конструктора и ученого оставался на
острие проблем во многом определяющих успех разработок КБ.
Особый интерес воспоминаниям автора придает то, что
будучи выпускником Харьковского авиационного института и конструктором по образованию
он практически всю свою творческую деятельность осуществлял на стыке трех очень
тесно взаимосвязанных дисциплин: конструирование — материаловедение — технология
машиностроения. И именно это позволило впервые в ракетно-космической технике
решить целый ряд фундаментальных проблем.
«Заслуженного конструктора России» Е. С. Кулагу не зря
называют «патриархом композитов», так как по его инициативе и под его руководством
в 1961—1962 гг. впервые в мировой практике был создан корпус головной части
боевой ракеты из стеклопластика.
И сегодня КБ «Салют» является флагманом космической
отрасли по внедрению полимерных композиционных материалов в конструкциях
жидкостных ракет — свидетельство тому трехслойный обтекатель из углепластика
диаметром 4,2 метра, под которым размещается полезный груз при запуске ракет
«Протон», а Е. С. Кулага уже мечтает о том времени когда и баки новых ракет
будут изготавливаться из композиционных материалов, что позволит сохранить
лидерство в создании высокоэффективных носителей, уже в течение 35 лет прочно
удерживаемое ракетоносителем «Протон».
Длившееся в течение десятилетия
соперничество главных конструкторов С. П. Королева, М. К. Янгеля и В. Н. Челомея за создание и постановку
на вооружение боевых баллистических ракет с ядерным зарядом закончилось победой
М. К. Янгеля и В. Н. Челомея, проектировавших ракеты на высококипящем топливе —
несимметричном диметилгидразине и азотном тетраксиде. И в этом немалая заслуга
автора воспоминаний, так как именно его подразделению удалось разработать методику
ампулизации жидкостных ракет и, следовательно, их высокую надежность при
длительном пребывании в полностью заправленном состоянии на боевом дежурстве.
Знаменитые ракеты КБ «Салют» УР-100 и УР-100Н, наряду с ракетами Р-12 (8К63),
Р-14 (8К65) и Р-16 (8К64), первой межконтинентальной баллистической ракетой
разработки ОКБ-586 (КБ «Южное»), обеспечили надежный ядерный паритет в 60—70
годах.
Впервые в мемуарной литературе автором освещены
проводившиеся при его непосредственном участии комплексные исследования стойкости
ракетной техники к воздействию ядерного взрыва и методов ее защиты. Эти работы
проводились в ведущем ядерном центре страны — Арзамасе-16 и обеспечили высокую
защищенность ракет и в первую очередь систем их управления.
Занимаясь последние 20 лет разработкой корпусов всех
создаваемых КБ «Салют» образцов техники, автор показывает, как глубокие новаторские
идеи В. Н. Челомея, заложенные при создании станции «Алмаз» и тяжелого
транспортного корабля для доставки грузов на станцию, были успешно реализованы
при строительстве космической станции «Мир» и функционально-грузового блока
(ФГБ) международной космической станции (МКС).
Именно сочетание опережающих свое время идей,
заложенных при создании ракетоносителя «Протон» и космического аппарата «Алмаз»,
с неукротимой энергией и целеустремленностью Генерального директора
Государственного космического научно-производственного центра им. М. В.
Хруничева — Анатолия Ивановича Киселева позволили предприятию выйти и успешно
закрепиться на мировом рынке космических услуг и внести весомый вклад в
создание МКС. Важнейшей составляющей успеха явилось объединение усилий КБ,
завода и стартового комплекса на полигоне «Байконур» в рамках ГКНПЦ им. М. В.
Хруничева.
В своей книге автор освещает только те события, в которых
он либо сам принимал участие, либо свидетелем которых он был. Рассказ о многих
руководителях и ученых автор проводит через призму своего восприятия и, хотя
такая оценка весьма субъективна, она позволяет каждому читателю создать свой
образ и дополнить его какими-то новыми чертами.
В целом книга представляет весомый вклад в
историографию ракетно-космической техники, вызовет широкий читательский
интерес, будет полезна молодому поколению, дерзнувшему связать свою судьбу с
освоением космоса.
Директор научно-технического центра НПО «Композит»,
Лауреат государственной премии СССР, «Заслуженный
машиностроитель России»
В. И. Пыльников
От автора
История мемуарной литературы насчитывает несколько
тысячелетий, донося до нас судьбы многих исторических личностей. С течением
веков и тысячелетий изменялся характер, содержание и формы этих произведений.
Дошедшие до нас источники древних свидетельствуют о их составителях на фоне
описаний тех событий, которым посвящались их труды. Начиная с новой эры эти
источники формировались под воздействием религиозных воззрений. Затем уже
появилось большое число свидетельств летописцев и военноначальников. Вообще же,
всестороннее исследование истории мемуарной литературы еще ждет своего решения,
особенно отечественной за последний ХХ век, ибо этот век оставляет глубокий
след в истории человечества. Потомки еще долго будут его тщательно изучать.
Первоисточники творцов этого века будут иметь большое значение для них. Именно
в них будет содержаться истинная подоплека многих дел, нашедших свое отражение
в официальных источниках.
Ведь именно в ХХ веке появились в массовом применении
и использовании электричество, радио, автомобили, самолеты, атомная техника,
телевидение, электроника, ракеты, космическая техника, бионика, генная
инженерия и многое другое, без чего мы жить уже не можем. Это в материальном
производстве. Не менее грандиозные изменения произошли в социальной области.
В огне революций в
России появилось государство, первым вставшее на путь социалистического развития.
Кардинально изменился капитализм, который к концу века обеспечил, в
индустриально развитых странах, основные социальные потребности трудящихся.
Отгремели две кровопролитные мировые войны и десятки малых войн, унесшие
десятки миллионов человеческих жизней. Ликвидирован позорный для человечества
колониальный режим. Образовалась мировая, так называемая, социалистическая
система из стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки,
государства которой начали осваивать государственное строительство на научной
коммунистической основе. Но к концу ХХ века рухнула эта мировая социалистическая
система в том виде как она сложилась под воздействием СССР и были ликвидированы
социалистические основы обществ в большинстве бывших социалистических стран,
включая и первое социалистическое государство в СССР, гибель которого
стимулировала гибель и других социалистических государств.
Все эти события являются событиями исторического
значения и причины, приведшие к ним, еще долго будут изучаться нашими потомками
и сопоставляться с теми причинами, которые все равно приведут к ренессансу
социализма в мировом масштабе, а в ряде стран Азии он по-прежнему строится и
развивается наряду с изменениями теоретических
представлений о новом социалистическом обществе. Поэтому мемуарная литература
этого века будет являться неоценимым подспорьем для историков будущего.
Мемуарной
литературе за советский период Сталиным был нанесен непоправимый урон. Он сам
не написал мемуаров и крайне отрицательно относился к тем, кто их писал,
считая, что время для их написания еще не настало. Нужно работать, а не писать
мемуары — так он считал. Это, очевидно, аргументация для внешнего пользования.
А истинная причина, наверное, состояла в том, что рьяные мемуаристы могли проболтаться
и многое написать о том, на чем держалась его власть, а за всеми не уследишь.
Поэтому все большие руководители при нем боялись писать что-либо личное. Даже
Жуков, активно сотрудничая с журналистикой во время войны, соглашался
предоставлять статьи с условием их публикации без его имени.
После смерти Сталина появилось много мемуарных работ.
Но все они нуждаются в тщательном анализе и системном сопоставлении, поскольку
все они выходили в свет после тщательной редакции в ЦК КПСС, которая
осуществлялась под вполне определенным углом так же как и истории СССР,
выходившие в разные периоды при тех или иных генсеках.
Большое
значение имеют записи не только людей высокого научного, технического и
политического уровня. Еще Горький говорил, что нет более интересной истории,
чем жизнь любого, даже самого простого человека. Судьбы человеческие — это
самое интересное и увлекательное не только с художественной точки зрения, но и
с историографической.
Так
сложилось, что общепризнанным явилось написание мемуаров видными людьми и
историческими личностями. А люди маленькие, как правило, мемуаров не пишут, а
если и писали, то их печатали очень мало. А жаль. Свидетельства людей «среднего
звена» могли бы пролить свет больше подчас, чем значительные личности, ибо
немалая часть «кухни» больших людей варится именно в «среднем звене» и людям
этого звена есть о чем рассказать.
Нынешние
записи автора относятся именно к такого рода писаниям и в них описано только
то, с чем автор сталкивался сам, принимал участие или был свидетелем тех или
иных событий. Основу этих записей составило, конечно, описание производственной
деятельности автора в области самолетостроения и ракетно-космической техники,
которые составляли для него главный смысл и источник жизни.
Появление в печати данной книги следует отнести к
внимательному отношению нашего Генерального директора Анатолия Ивановича Киселева
к истории не только завода, но и КБ «Салют». Анатолий Иванович активно
поддержал идею нашего патриарха ветеранов Шехояна Александра Сергеевича о
целесообразности ее публикации в связи с предстоящим пятидесятилетним юбилеем
КБ «Салют».
Сейчас КБ и
завод образовали единый Государственный космический научно-производственный
центр им. М. В. Хруничева. Следует отметить, что Анатолий Иванович твердо стоит
на позиции, что наше предприятие должно быть государственным, а не коммерческим
в отличие от некоторых ведущих фирм нашей отрасли. И проявление этого мы
прекрасно видим в громадном развитии социальной сферы нашего Центра, которое
осуществляется по его личной инициативе. Жаль только, что в большой прессе мало
об этом пишется в отличие от наших технических достижений.
Образованию
нашего Центра предшествовала определенная история взаимоотношений этих двух
организаций. Не всегда отношения между ними были радужными, несмотря на то, что
органически они всегда были связаны теснейшим образом со дня организации КБ
«Салют», а тогда ОКБ-23 во главе с Генеральным конструктором Владимиром Михайловичем
Мясищевым.
О необходимости объединения проектных, конструкторских
и производственных организаций велась
обширная дискуссия в публицистике еще в советское время. И только в рыночных
условиях это удалось сделать Анатолию Ивановичу. Сейчас таких центров стало
появляться все больше не только в нашей отрасли, но и в других видах
производств.
В заключение следует отметить, что это мои личные
заметки, написаны в основном о себе. Поэтому заранее приношу свои извинения и
прошу прощения у многих своих коллег, что о них сказано очень мало по сравнению
с тем, что следовало бы сказать. А о многих вообще ничего не сказано. Так, что
не обижайтесь и не осуждайте меня, ради бога, мои друзья и все те, кто будет читать
эти строки.
КОНЕЦ ОТСИДКИ
НА УЛИЦЕ РАДИО
Советский период нашей истории омрачен рядом
существенных искажений, отступлений, а подчас и извращений социалистических принципов
и коммунистической морали, которые провозглашались основой развития нашего
общества. Эти искажения имели место во многих сферах идеологической и
практической деятельности. Они еще ждут своих объективных и непредвзятых
исследователей, которые глубоко и всесторонне исследуют эти явления и сделают
из них крайне необходимые, научно обоснованные выводы для будущего развития
государств, идущих в своем развитии по социалистическому пути.
Наиболее тягостной формой деяний в то время,
являющейся просто уголовным преступлением, были аресты, наряду с явными
врагами, большого числа просто невинных людей или по незначительному поводу.
Количество арестованных и расстрелянных в то время сейчас уже достоверно
установлено и оно значительно меньше тех данных, которыми оперируют в своей
главной аргументации неокритики нашего советского периода.
Теперь стало общеизвестно, что многие специалисты,
арестованные перед войной, сосредотачивались в специальных закрытых учреждениях,
получивших ныне названия «шарашек». Одна из таких «шарашек» находилась на улице
Радио в Москве в здании конструкторского бюро А. Н. Туполева, где оно находится
и поныне. В этой «шарашке» были собраны арестованные специалисты и конструкторы
авиационной техники во главе с самим Туполевым. Они разрабатывали один из
первых пикирующих бомбардировщиков в нашей авиационной технике.
Туполев до войны начал проектировать свой фронтовой
пикирующий бомбардировщик Ту-2 в ответ на воевавший в Европе фашистский
пикирующий бомбардировщик Ю-88. После ареста он продолжал и в заключении
проектировать этот самолет. Заключенных специалистов на улице Радио поместили
на верхнем этаже конструкторского бюро, образовав там дополнительно охраняемое
их общежитие. На время работы эти специалисты спускались вниз в КБ и работали
рядом и вместе со всеми другими «цивильными» специалистами, находящимися на
свободе. Все они охранялись внешней охраной КБ. Вечером «цивильные» уходили
домой, а арестованные поднимались к себе и там коротали время, занимаясь
различными делами. Среди них распространились различного рода кустарные
промыслы и многие из них изготавливали всевозможные поделки. Наиболее
распространенным видом хобби было вырезание курительных трубок. Через
«цивильных» сотрудников заключенные поддерживали тесную связь с родными и
близкими. Иногда, и довольно часто, удавалось поговорить и по телефону, так что
это «сидение» было с существенным послаблением. И такой мягкий режим был не
только у этих специалистов. По свидетельству одного очевидца, Рамзин — председатель
разгромленной промпартии в 30-х годах, «сидя», свободно ходил по городу
Горький, где он находился в заключении. Впоследствии он был награжден орденом
Ленина за разработку известного парового «котла Рамзина». Так, что Горький стал
местом изоляции еще в те годы и А. Д. Сахаров был не первым его узником.
В туполевском КБ «сидело» много видных специалистов
авиационной промышленности. Так, начальником конструкторской бригады крыла был
Мясищев Владимир Михайлович, его заместителем был Неман Иосиф Григорьевич, а
инженером-конструктором первой категории у них был Королев Сергей Павлович, разрабатывавший
лонжерон крыла Ту-2. Все они так же как и Туполев были арестованными и вырванными
из своих трудовых коллективов. У Королева копировщицей работала «цивильная»
Вескер Слава Иосифовна. Тогда чертежи, начерченные конструктором, копировщицы
переводили тушью на кальку, с которой снимались копии-синьки для работы по ним
в цехах.
В 1951 году, когда я пришел в ОКБ Мясищева, которое
только вновь было создано, я постарался попасть в бригаду крыла, где и проработал
с небольшими перерывами в течение десяти лет конструктором. Копировщицей со
мной работала все та же Слава Вескер, которая вернулась в свое родное КБ, как
она говорила. Она много рассказала мне о той отсидке на улице Радио. То была
энергичная, трудолюбивая и изумительной красоты женщина, которая заслуженно
являлась душой коллектива.
ЗА ЧТО СИДЕЛИ
Кто и за что арестовывался достоверно неизвестно и
поныне. Мне пришлось проработать в течение более двух десятков лет со многими,
кто сидел на улице Радио. Но никто из них никогда не рассказывал, за что их
арестовали. На вопрос о том, что Туполева арестовали за передачу немцам
каких-то чертежей, они только улыбались молча. Как теперь стало известно, с них
брали подписку при освобождении о неразглашении всего того, что с ними
происходило во время ареста. И они это весьма тщательно соблюдали.
Среди арестованных в КБ Туполева находился Бару Ефим
Иосифович, бывший начальник бригады прочности в Харьковском авиационном
конструкторском бюро Калинина. С Бару я проработал рядом более тридцати лет. Мы
стали друзьями, несмотря на существенную разницу в возрасте. И только перед
своей смертью Бару мне сказал, что его арестовали за допущенную ошибку в
расчете на прочность оперения разрабатывавшегося ими военного самолета.
Инженеры, пришедшие из НКВД, нашли эту ошибку и его арестовали. В результате
этой ошибки при испытаниях сломалось хвостовое оперение самолета. Но здесь мой
дорогой Ефим Иосифович слукавил. Из литературы я знал, что то злосчастное
оперение сломалось не на испытаниях, а в полете. Самолет разбился, а экипаж
погиб. Вот за это его и арестовали. Ему я об этом, конечно, ничего не сказал.
Это был случай ареста за допущенные значительные производственные упущения.
Известен мне и другой случай о причине ареста. До войны мой отец
работал заместителем начальника железнодорожной станции Мариуполь. За два года
до войны арестовали начальника станции, а отца назначили на его место. Вскоре
начальник городского НКВД, который был приятелем отца, сказал ему, что завтра
рано утром они будут «брать» отца. Но в эту ночь арестовали весь состав
мариупольского НКВД и об отце на время забыли. Он сразу же перевелся в другой город
и мы уехали из Мариуполя. Так отец избежал ареста. И только спустя многие годы
жена одного из сотрудников станции перед своей смертью, и когда уже не было
моего отца, сказала моей матери, что начальника станции посадили по
клеветническому доносу ее мужа, который стремился занять его место.
Отца тогда перевели в Волновахское отделение
Южно-Донецкой железной дороги старшим диспетчером отделения. Примечательна и трагична
его судьба. Он был абсолютно предан работе. В течение полутора десятка лет до
войны и после войны он ежедневно проводил селекторные совещания по отделению
дважды в день — в 6.00 и в 24.00 часа. Это в итоге подорвало его здоровье. К
тому же, этому способствовали, к сожалению, мы, его дети, я и старший брат
Виктор. Он был необычайно одаренным человеком. Уже до войны он собственноручно
сделал прекрасную радиолу, сам наматывая трансформаторы к ней, а потом даже
начал делать телевизор с механическим разделением кадров. Он до войны, ученик
9—10-го класса, руководил кружком радиолюбителей в городском Дворце пионеров в
г. Мариуполе. Я же, по словам отца, был «не без урода в семье». Мое постоянное
и любимое местопребывание была улица, а летом пляж на море. Я был заштатным
пацаном на побегушках моряков-спасателей городского ОСВОДА — общества спасения
на воде. А перед самой войной я столько горя и забот доставил родителям, что
трудно передать.
Съезжая на спор с крутой горы на велосипеде, уже на
выезде, я перелетел через руль, ударился виском о камень и потерял сознание. Пролежал
без сознания три дня и в итоге — сотрясение и воспаление мозга с параличем
верхней части тела. У меня отнялись руки. Два года они, бедные, мучались вместе
со мной. Я и войну встретил в санатории в Макапсе — это между Сочи и Туапсе.
Там была дача Кагановича. Сталин отобрал ее у него и отдал тяжело больным
детям. Вот я туда и попал.
А во время войны Виктор, будучи студентом второго
курса Новосибирского института военных инженеров транспорта, ушел добровольно в
армию и в составе 2-й отдельной добровольческой бригады сибиряков-омичей им.
Сталина погиб в декабре 1942 года под Вышним Волочком. Командир полка прислал
отцу все документы Виктора в том числе и окровавленный комсомольский билет. Как
отец пережил все это трудно представить. От матери он все это скрыл и она
умерла, так и не узнав о гибели Виктора. Отец тогда работал старшим диспетчером
Омской железной дороги. Его туда направили после того как немцы перерезали железную
дорогу от Поворино к Сталинграду, где отец был уполномоченным Наркома путей
сообщения по снабжению Сталинградского фронта, за что уже после войны получил
орден Ленина. Он скончался в возрасте 57 лет в 1957 году. Но продолжим разговор
об арестах.
Во время войны и я сам мог быть арестован на поле,
когда собирал опавшие колоски хлеба. Могли осудить во время войны и за
опоздание на работу. Вместе с тем, работая юношей в эвакуации во время войны в
Заготзерно на станции Петухово, а затем на танковом заводе в Омске, я не помню
случая, чтобы кого-либо осудили за опоздание на работу. Меня же самого в Омске
за опоздание с обеда начальник цеха перевел в наказание на станок из
привилегированного лекального отделения.
Установление причин арестов, их анализ и
систематизация позволили бы установить их подоплеку и характеристику тех
процессов, которые подспудно протекали в высших эшелонах власти наряду с громадным
энтузиазмом и производственным подъемом, царившими в стране в то время. Для
понимания генезиса этого явления крайне важно установить не только общее
количество жертв тех деяний, но и причины, послужившие основанием для их
свершений. Не раскрыв и не сопоставив количество с причинами этих преступлений,
мы никогда не поймем до конца глубинные истоки этого явления и недобросовестные
люди по-прежнему будут использовать эту нашу беду в своих неблаговидных целях.
Эти массовые преступления чинились в течение десяти—пятнадцати лет перед войной
и вскоре после войны. Но ведь последующие сорок лет Советской власти, после
смерти Сталина, этих преступлений уже не было. А нынешние неокритики
злонамеренно раздувают значение репрессий, ни слова не упоминая о том, что это
больше не повторялось в нашей истории.
В период перестройки, когда только начинала разворачиваться
фронтальная атака на наш советский уклад жизни, газета «Вечерняя Москва» начала
печатать так называемые «расстрельные списки». В них сообщались некоторые
биографические данные о расстрелянных. Из анализа списков было видно, что это
были, в основном, мелкие служащие. Среди них не было ни одного рабочего или
колхозника, так же как и не было ни одного более или менее крупного
специалиста. Очевидно, это были люди, которые говорили то, что думали и не
придерживались тройной морали, царившей в обществе. Я обратился в редакцию с
тем, чтобы в списках сообщали и о причинах ареста, поскольку эти списки составлялись
на основании архивных личных дел расстрелянных и в них была сформулирована
причина расстрела. Но редакция не только не ответила мне, но вскоре вообще
прекратила печатать эти списки, очевидно поняв, что при анализе таких списков
можно сделать совсем не те выводы и заключения, на которые редакция
рассчитывала, публикуя их.
В журнале
«Инженер» № 1 за 1993 год Ф. Чуев рассказал и привел ряд интересных фактов.
Перед войной арестовали наше светило в области авиационного моторостроения Б.
Стечкина, которого тоже держали в «шарашке». Но он имел совсем свободный режим
и довольно часто встречался по делам с Берией. В одну из таких встреч Стечкин
спросил Берию напрямую: за что я сижу, что я враг? На это Берия ответил: если
бы был враг, то я тебя уже давно бы расстрелял. В другой ситуации и по другому
поводу, маршал авиации В. Голованов спросил у Сталина: за что сидит Туполев? На
это Сталин ответил: говорят (!?) что он связан с иностранной разведкой, но я
этому не верю, и дальше не стал распространяться по этому поводу. И вместе с
тем, «не веря», продолжал держать его под арестом и не выпускал на свободу.
Из этих фактов можно сделать вывод о том, что этих двоих
и, возможно, многих других интеллигентов, сажали за «болтовню», в которой они
позволяли себе высказывать нелестные суждения о властьимущих. А стукачей тогда
было предостаточно. Вот таких и сажали в назидание, чтобы знали, где и о чем
можно было говорить, а кроме того и власть свою продемонстрировать.
А расстреливали, очевидно, действительно тогда врагов
и политических противников. Тогда, в преддверии войны, был «накал страстей» у
правителей. Они готовили и очищали тылы от действительных и мнимых врагов перед
решающей схваткой. Что она будет и именно с Германией никто тогда в этом не
сомневался.
Троцкий в 1936 году в своей последней работе даже
описал ход и последствия этой войны. Он писал, что после нападения Германии на
СССР Красная Армия потерпит громадное поражение и отступит далеко вглубь
страны. За первые полтора года войны страна потеряет не менее десяти миллионов
человек. Но СССР все равно победит и выиграет эту решающую войну. После этой
победы дальнейшее развитие СССР может пойти по двум направлениям. Он писал:
«Представим себе, что советская бюрократия низвергнута
революционной партией, которая имеет качества старого большевизма и в то же
время обогащена мировым опытом последнего периода. Такого рода партия начала бы
с восстановления демократии профессиональных союзов и Советов. Она могла бы и
должна была бы восстановить свободу советских партий. Вместе с массами и во
главе их она повела бы беспощадную чистку государственного аппарата. Она
уничтожила бы чины и ордена, всякие вообще привилегии и ограничила бы неравенство
в оплате труда жизненно необходимыми потребностями хозяйства и государственного
аппарата. Она дала бы возможность молодежи самостоятельно мыслить, учиться,
критиковать и формироваться. Она внесла бы глубокие изменения в распределение
народного дохода в соответствии с волей рабочих и крестьянских масс. Но
поскольку дело касается отношений собственности новой власти не пришлось бы
прибегать к революционным мерам. Она продолжала и развивала бы дальше опыт
планового хозяйства. После политической революции, т. е. низложения бюрократии,
пролетариату пришлось бы в экономике произвести ряд важнейших реформ, но не
новую социальную революцию.
Если, наоборот, правящую советскую касту низвергла бы
буржуазная партия, она нашла бы немало готовых слуг среди нынешних бюрократов,
администраторов, техников, директоров, партийных секретарей, вообще
привилегированных верхов. Чистка
государственного аппарата понадобилась бы, конечно, и в этом случае, но буржуазной
реставрации пришлось бы, пожалуй, вычистить меньше народу, чем революционной
партии. Главной задачей новой власти было бы, однако, восстановление частной
собственности на средства производства. Прежде всего потребовалось бы создание
условий для выделения из слабых колхозов крепких фермеров и превращение сильных
колхозов в производственные кооперативы буржуазного типа, в сельскохозяйственные
акционерные компании. В области промышленности денационализация началась
бы с предприятий легкой и пищевой промышленности. Плановое начало превратилось
бы на переходной период в серию компромиссов между государственной властью и
отдельными «корпорациями», т. е. потенциальными собственниками из советских
капитанов промышленности, из бывших собственников-эмигрантов и иностранных
капиталистов. Несмотря на то, что советская бюрократия многое подготовила для
буржуазной реставрации, в области собственности и методов хозяйствования новый
режим должен был бы произвести не реформу, а социальный переворот».
Насколько вещими, в отличие от теоретических взглядов,
оказались его политические прогнозы, сбывшиеся через 55 лет. Как далеко он мог
предвидеть и дать точный анализ хода исторического развития на полвека вперед.
Но эти пророческие слова у нас в стране не были широко известны и не было
ничего предпринято, чтобы предотвратить трагический для нас, ныне живущих, ход
событий. События в нашей стране, приведшие к реставрации у нас самого дикого
капитализма, перевернули мир и подвели черту целой эпохе человечества к концу
ХХ века. Третье тысячелетие человечество встретит в новой борьбе совсем за
другие идеалы и другими методами по сравнению с теми, которые протекали в ХХ
веке. Страшная диспропорция в развитии стран в мире, хищническое истребление
минеральных ресурсов планеты и удушение природы отодвинет классовую борьбу на
второй план и межгосударственное противостояние станет решающим в борьбе за
выживание целых континентов. Россия в очередной раз попадет в центр борьбы за
передел обладания минеральными ресурсами, как она попала в конце ХХ века и СССР
был разрушен.
Но вернемся на улицу Радио от этих тяжелых
предвидений.
КТО КУДА ПОШЕЛ
Повествование Ф. Чуева, о чем уже упоминалось, пролило
свет на некоторые детали образования и работы «шарашек». Первая из них была
образована в 1938 году из числа авиационных специалистов и разместили ее на
авиационном заводе в Тушино. Там, как пишет Чуев, находились Б. Стечкин, А.
Туполев, В. Мясищев, В. Глушко, С. Королев и др. К сожалению, он четко не
приводит временных рамок их прибывания в Тушино. Из его последующего изложения
можно установить, что Туполева с его группой перевели из Тушино, но куда он не
указывает. Вескер сообщает, что она работала в этой группе на улице Радио и в
ней находился Королев. Но Чуев постоянно подчеркивает, что Королев работал
вместе со Стечкиным и Глушко. Вместе с тем, он отмечает, что Королева
арестовали в 1940 году и отправили на Колыму. Уже оттуда Королева перевели в
Тушино. Очевидно, когда Туполева переводили из Тушино на улицу Радио, то с ним
перешел и Королев. В 1941 году после начала войны Туполева вместе с его КБ
перевели в Омск. Вот тогда, очевидно, Королев не поехал с Туполевым в Омск, а
поехал со Стечкиным в Казань. К сожалению, я не уточнял у Вескер работал ли с
ними Королев в Омске. Но сейчас уже нет никого из них и не представляется возможным
уточнить эту деталь.
Туполев, находясь в Омске, продолжал проектировать и
строить первые опытные Ту-2. Дело продвигалось медленно и не только из-за объективных
причин, определявшихся переездом КБ и обустройством на новом месте. К тому
времени у Петлякова В. М. пошел в крупную серию знаменитый пикирующий бомбардировщик
Пе-2.
Перед войной Петляков начал проектировать двухмоторный
высотный истребитель. Такого же назначения истребитель проектировали Лавочкин и
Гуревич. Их истребитель пошел в серию и начал войну под маркой ЛАГГ-3, но не
показал себя в боевых действиях и был снят с производства. А Петляков после
ареста Туполева, быстро сориентировался и удачно переделал двухмоторный
истребитель в пикирующий бомбардировщик и он пошел в серию под маркой Пе-2. В
силу этого пропал интерес к туполевскому пикирующему бомбардировщику несмотря
на существенное превосходство его летно-технических характеристик. Ту-2 попал
на фронт только к концу войны.
В разгар войны, наконец, ликвидировали туполевскую
«шарашку» и освободили всех заключенных, которые подались кто куда. Туполев
продолжал руководить своим КБ в Омске и вел работы по Ту-2. К тому времени
погиб Петляков. Мясищева назначили на его место и он выехал в Казань. Вместе с
ним уехал и Неман. Петляков погиб в своем собственном самолете. Ему срочно
нужно было вылететь из Казани в Москву, а подходящего самолета не оказалось. Он
разместился в бомбовом отсеке своего Пе-2, который в полете потерпел аварию, а
экипаж с пассажиром в бомбовом отсеке погиб.
Неман в Казани работал вместе с Мясищевым. Но после
освобождения Харькова в августе 1943 года, Неман выехал в Харьков и включился в
работу по возрождению Харьковского авиационного института, который лежал в
развалинах. Он занял должность заведующего кафедрой конструкции самолетов.
О сидевших на улице Радио и, в частности, о работавших
в бригаде крыла написано много и они широко известны в стране. Имя Королева
долго оставалось секретным, поскольку он сразу же после освобождения продолжил
свои работы в области ракетостроения. Имена Туполева, Королева, Мясищева,
которого Королев иногда называл своим учителем, стали гордостью нации. А кто
был такой Неман, который удостоился «сидеть» в кругу такого выдающегося
созвездия да еще быть заместителем у Мясищева? К сожалению, о нем почти ничего
не известно не то, что широкой общественности, но и в среде нынешнего поколения
специалистов. Вместе с тем его блестящие творческие достижения в 30-х годах в
области авиации за его непродолжительную жизнь заслуживают того, чтобы о нем
рассказать более подробно, что я и сделаю позже.
В. М. МЯСИЩЕВ В АВИАЦИИ
ДАЛЬНИЙ БОМБАРДИРОВЩИК 102
Мясищеву посвящено
ряд монографий и публицистических работ и его имя широко известно у нас и за
рубежом. В технических кругах он стал известен накануне войны, спроектировав и
построив свой первый самолет — высотный дальний бомбардировщик 102. Этот
самолет явился новым словом в авиационной технике того времени. Подобного
самолета тогда не имела ни одна страна. В нем впервые была применена
герметичная кабина пилотов, мощное стрелково-пушечное оборонительное
вооружение, трехколесное шасси и много других технических новинок. Но двигатели
к этому самолету еще не были готовы, а тут еще последовал арест создателя
самолета и дело сильно застопорилось. Оказавшись в «шарашке» Мясищев был вынужден
проектировать крыло для самолета Ту-2 вместо того, чтобы доводить свой самолет.
А в это время американцы не дремали. Они сумели в
фирме «Боинг» быстро создать свой дальний бомбардировщик Б-17, приближавшийся
по своим характеристикам к мясищевскому самолету 102. Но если мясищевский
самолет так и не пошел в серию, то американский самолет Б-17 стал
использоваться во время второй мировой войны, но, главное, послужил хорошей
базой для создания их знаменитой «Летающей крепости» самолета Б-29. Этот
самолет действительно совершил техническую революцию в тяжелом самолетостроении,
вобрав в себя все передовые технические идеи, которые были разработаны к тому
времени и проверены на самолете Б-17.
С фирмой «Боинг» Мясищеву пришлось все время вести
напряженное соревнование в создании стратегических бомбардировщиков. Несмотря
на потерю своего первенца 102-го и пяти лет вынужденного творческого простоя, о
чем будет сказано ниже, в итоге Мясищев все же не проиграл интеллектуальное
соревнование с этой фирмой.
В КБ ПЕТЛЯКОВА
Перед приходом Мясищева в КБ Петлякова бомбардировщик
Пе-2, пошедший в массовое производство, стал показывать на фронте несколько не
те характеристики, которые были заложены в нем. Серийные самолеты начали терять
скорость и в боях начали возникать осложнения. Слабым оказалось и
стрелково-пушечное вооружение самолета. Вышло специальное постановление ЦК КПСС
и СМ СССР, требовавшее максимально быстро устранить выявившиеся недостатки в
конструкции самолета Пе-2. Эти работы
всецело поглотили внимание Мясищева. Были проведены обстоятельные обследования
в аэродинамических трубах и обследован уровень качества изготовления серийных
самолетов. В итоге было существенно улучшено аэродинамическое качество самолета
и качество его изготовления на серийных заводах. В результате этих работ
скоростные характеристики самолета были доведены до проектных параметров.
Наряду с этим, под
руководством Селякова Леонида Леонидовича, который впоследствии стал заместителем Мясищева по проектным вопросам,
была разработана специальная бортовая стрелково-пушечная установка. Быстрое ее
освоение в производстве резко подняло защищенность этого самолета, который
подвергался яростным атакам немецких истребителей, поскольку его недаром
называли «летающий танк».
Как известно, и об этом писали все кто хоть как-то
касался Мясищева в своих работах, он был высокотворческим конструктором и
всегда смотрел далеко вперед, обгоняя время в своих разработках. Так было с
самолетом 102. Так же произошло и с самолетом Пе-2.
Устранив недостатки этого самолета, Мясищев нашел путь
существенного улучшения его летно-технических характеристик. Используя все
основные узлы этого самолета и не нарушая производственного ритма, он сумел
поднять характеристики самолета Пе-2 почти на 30%, что явилось небывалым
явлением в практике модернизации самолета в процессе его производства. По своим
характеристикам он приблизился вплотную к лучшему самолету этого класса в то
время, каким являлся английский самолет «Москито». Это был практически новый
самолет и он получил индекс Пе-2И и дальше воевал уже этот самолет, о чем и поныне
широко не известно даже технической общественности. Обо всем этом написал в
своих воспоминаниях Селяков, один экземпляр которых так и хранится у меня на
полке, а в печать эти записи так и не попали, разделив судьбу многих
аналогичных работ.
ВТОРОЙ РАЗГРОМ МЯСИЩЕВА
Сразу же после окончания войны в стране начался перевод экономики
и промышленности на мирные рельсы. В то время ликвидировали многие военные
производства и конструкторские организации, разрабатывавшие и изготавливавшие
различные виды вооружения. Упразднено было и КБ Петлякова — Мясищева. Коллектив
был разбросан по различным оставленным конструкторским организациям в самолетостроении,
а сам Мясищев был направлен профессорствовать в Московский авиационный институт.
Таким образом высококлассный специалист был выключен
из производственной сферы и никому его квалификация и умение не были нужны. Но
никто не мог его выключить из творческого процесса. Он внимательно следил за
деятельностью фирмы «Боинг». Мясищев с тоской видел, что эта фирма, создав
стратегический бомбардировщик классической схемы с поршневыми двигателями,
каким являлся самолет Б-29, начала проектировать самолеты этого класса с
реактивными двигателями. Уже наступил век реактивной авиации и на вооружение
поступили истребители с такими двигателями. Тяжелые самолеты еще находились в
стадии проектирования, поскольку применение таких двигателей на больших
самолетах вызывало ряд технических сложностей.
Читая лекции в МАИ, Мясищев неуклонно вел разработку тяжелого
стратегического бомбардировщика с реактивными двигателями, прорабатывая те или
иные решения в различных курсовых и дипломных проектах студентов. Он накапливал
материал вместе со своим сподвижником Георгием Николаевичем Назаровым. К началу
50-х годов общая идея самолета созрела и была проработана в основных
технических деталях. Нужен был определенный внешний импульс с тем, чтобы она
начала реализовываться. И он не замедлил появиться.
К началу 50-х годов у нас, как известно, появилась
атомная бомба и во весь рост встала задача создания средств ее доставки.
Мясищев понимал необходимость решения этой задачи и, не имея в своем распоряжении
специализированного КБ, подготовился к ее решению с помощью студентов.
ТУПОЛЕВСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТОЙ ПОРЫ
СОЗДАНИЕ БОМБАРДИРОВЩИКА ТУ-4
Самолеты «Летающая
крепость» Б-29 наводили ужас на немцев в их тылу. Они разрушили не один немецкий
город, подчас без всякой военной необходимости. Эти самолеты были верхом
технического совершенства в авиации и являлись весьма секретными. И вместе с
тем, американцы пошли на челночные полеты при бомбежках Германии. С этой целью
на нашей территории были созданы опорные базы американцев для посадки и
обслуживания этих самолетов. В частности такая база была создана под Полтавой.
Отбомбившись в
Германии, Б-29 садились на нашей базе, заправлялись и вновь шли на бомбежку
Германии, совершая тем самым челночные полеты. Этот самолет в техническом
отношении был очень сложным, начиненным большим числом различного вида
оборудования и вооружения. Поэтому на борту каждого самолета имелся целый ящик
описаний и инструкций по эксплуатации всех систем самолета. Об этом узнали наши
служащие на американской базе в Полтаве и один старшина умудрился стащить этот
ящик с документацией. За это он был награжден орденом Красной звезды. Об этом
мне рассказал один офицер в штабе 43-й воздушной армии Дальней авиации, у которого
служил этот старшина.
Затем, уже в японскую войну, три
«крепости» сделали вынужденную посадку на Дальнем Востоке на нашей территории и
были интернированы. Никакие политические демарши со стороны американцев не смогли
вернуть им эти самолеты. Не с этих ли эпизодов начали ухудшаться наши отношения
с Западом, приведшие вскоре к Фултонской речи Черчилля и началу развязывания
холодной войны против нашей страны? Очень может быть, что это были последние
капли в принятии решения американской стороной. А холодная война все равно была
бы развязана против нас, поскольку ее неизбежность предопределялась ходом исторического
процесса в мировом развитии во второй половине ХХ века, в которой
противостояние капитализма и социализма вступало в решающую стадию. Стоял
вопрос — кто кого? И к большому горю нашему, наша несокрушимая КПСС и премудрые
ее руководители потерпели к концу ХХ века сокрушительное поражение в этой холодной
войне и дело социалистического строительства у нас отброшено на многие годы, в
течение которых наши сограждане, ни за что, терпят громадные лишения, бедствия
и смерть тысяч невинных людей.
Сразу же после интернирования
американских самолетов правительство потребовало от Туполева создание такого же
самолета, поскольку у нас подходили к завершению работы по созданию атомной
бомбы. Нужны были средства по ее доставке. Ознакомившись с самолетом Б-29,
Туполев сделал заключение, что с современным уровнем промышленности у нас такой
самолет создать нельзя. Несмотря на то, что наша экономика, созданная буквально
за десять предвоенных лет, обеспечила выигрыш жесточайшей войны моторов во
вторую мировую войну, обеспечить создание такого самолета она не сможет. В нем
воплощены новейшие достижения в области материаловедения, приборного и двигательного
машиностроения, специальной металлургии и других видов техники. Ничего похожего
у нас не было.
И тогда правительство принимает беспрецедентное
решение — скопировать этот самолет, а для его постройки создать необходимые отрасли
промышленности. Это в то время, когда немецкие специалисты и их промышленность
не смогли решить аналогичную задачу по воссозданию у себя нашего танка Т-34.
Эту грандиозную задачу поручили КБ Туполева как головной организации.
Один самолет разобрали и конструкторы, обмеряя каждую
деталь, выпускали на них рабочие чертежи и выдавали задания материаловедам,
технологам, металлургам и другим специалистам на разработку новых материалов,
техпроцессов и производств. Происходила настоящая научно-техническая революция
в самолетостроении. Иногда доходило до курьезов, как рассказывали мне
конструкторы, принимавшие участие в этих работах, и с которыми мне пришлось
затем работать вместе в КБ Мясищева.
Постановлением правительства категорически запрещалось
вносить какие-либо изменения и улучшения в самолет и в любую его деталь. И вот
попадалась ремонтная накладка. Это было явно очевидно, но ее скрупулезно
приходилось повторять в конструкции нашего самолета.
Эта грандиозная работа была завершена в кратчайшие
сроки и я уже в 1949 году проходил студенческую практику на серийном заводе, во
всю изготавливавшем эти наши самолеты, получившие шифр Ту-4. А в 1952 году,
волею судеб и в силу безнаказанности всесильного произвола чиновников, я
оказался в армии и был назначен ведущим инженером-технологом по капитальному
ремонту первого самолета Ту-4, отлетавшего свой летный ресурс. Такой самолет
поступил на ремонтный завод 43-й воздушной армии Дальней авиации в Белой Церкви
на Украине. Вот таковы были темпы, навязанные холодной войной. Во всю
развернулись, с еще большими темпами, аналогичные работы, когда производство
атомных бомб встало на серийный поток.
СОЗДАНИЕ САМОЛЕТОВ ТУ-16 И ТУ-104
Туполевский коллектив, работая над воссозданием
самолета Б-29, не упускал и своих собственных разработок. Проектировались и
строились новые образцы средних бомбардировщиков с реактивными двигателями, но
по старым самолетным принципам с использованием старой производственной базы.
Работы в стране по созданию самолета Ту-4 позволили конструкторам перейти к
проектированию новых самолетов на основе вновь создаваемой производственной и
технической базы. И таким первым отечественным тяжелым бомбардировщиком с
реактивными двигателями явился Ту-16 с
ярко оригинальной конструктивно-компоновочной схемой.
На самолете Ту-16 впервые в тяжелой авиации появилось
стреловидное крыло большого удлинения, а два двигателя расположились в корневой
части крыла в каждой плоскости. При этом была решена сложнейшая инженерная
задача по организации прохода воздухозаборного канала двигателя прямо через
лонжерон, разрезав его в самой напряженной корневой части. Этот самолет впитал
в себя все самое лучшее, что было создано у нас для самолета Ту-4. На его базе
был создан первый пассажирский самолет Ту-104 с реактивными двигателями.
Но как бы не был хорош Ту-16, он не мог решить задачу
доставки атомной бомбы до Америки. У него не хватало дальности полета. Для этого
нужен был принципиально иной самолет.
САМОЛЕТЫ ТУ-95 И ТУ-114
Туполевский коллектив получил задание на разработку
стратегического бомбардировщика, способного доставить атомную бомбу до Америки
и вернуться обратно. Это значит, что дальность полета такого самолета должна
быть не менее 11000 км, а оптимально 16000 км. Туполев однозначно решил, что
такой самолет можно создать только с использованием турбовинтовых двигателей, у
которых используется одновременно и винтовая и реактивная тяга. Такие двигатели
более экономичны по сравнению с реактивными, но и самолеты при этом получаются
более тихоходными. Кроме того, применение этих двигателей требует более высоких
стоек шасси с тем, чтобы огромные винты не цеплялись за землю. Потом это
качество сыграло решающую роль в продлении жизни этих самолетов. За счет
больших стоек шасси стало возможным подвесить ракеты под самолетом и превратить
этот самолет в стратегический ракетоносец. Созданный туполевцами самолет получил
индекс Ту-95. Первый вылет опытного самолета состоялся в 1954 году и окончился
трагически. Самолет разбился, а весь экипаж погиб.
В авиации, как известно, было немало жертв как по
техническим причинам, так и из-за ошибок пилотирования. Но туполевскому КБ не
везло еще и потому, что на его самолетах высокое начальство пыталось демонстрировать
свою удаль.
Известна трагедия со сверхсамолетом «Максим Горький»,
который погиб с 47-ю пассажирами на борту после того как в него врезался истребитель, крутивший мертвую петлю вокруг
него. Летчик на истребителе был наивысшей квалификации и весьма
дисциплинированным. По своей инициативе он никогда бы не решился, без должной
тренировки, совершить такой рискованный и очень сложный маневр в воздухе.
Многие тогда склонялись к тому, что этого летчика подтолкнуло на это безусловно
какое-то начальство, не подчиниться которому он не мог.
После создания Ту-16 какой-то начальник предложил
флагману на параде над Красной площадью
сразу же за Историческим музеем снизиться, а перед храмом Василия Блаженного
сделать горку и круто взмыть вверх. У флагмана хватило ума и мужества не
выполнить эту дикость. А вот в Ля-Бурже во Франции при показе сверхзвукового пассажирского
первенца Ту-144 экипаж, очевидно, поддался и выполнил подобную горку. В итоге и
сам погиб и похоронил весь проект сверхзвуковой пассажирской авиации у нас в
стране.
После ряда усовершенствований самолет Ту-95 был
доведен и поступил на вооружение. На его основе был создан пассажирский самолет
Ту-114, который вызывал неприятности во всех аэропортах из-за своих «длинных
ног», поскольку таких высоких трапов нигде не было.
И. Г. НЕМАН В АВИАЦИИ
АВИАЦИОННАЯ НАУКА И
САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ НА УКРАИНЕ
В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
Иосиф Григорьевич Неман является одним из представителей первой когорты
ученых и специалистов, формировавших авиационную науку на Украине и создававших
самолетостроительное производство, начиная с 20-х годов. Поэтому, прежде чем
начать говорить о Немане, необходимо несколько остановиться с кратким изложением
основных вех истории становления украинского самолетостроения, поскольку его достижения
тех лет явились весьма весомым вкладом в отечественное самолетостроение в
целом. Вместе с тем, в историографической, научной и публицистической
отечественной литературе об украинском самолетостроении 20—30-х годов пишется
очень мало, иногда умалчивается. А иногда просто извращаются факты, как это произошло
уже в наше время в статье Михаила Первова, опубликованной в газете «Правда» от
13 февраля 1996 года, который пишет: «До 1932 года на всех гражданских линиях
страны имелись самолеты только иностранного производства». Из моего
последующего изложения станет вполне очевидно, что это далеко не так. И даже в
официальном издании АН СССР в 1980 году «Развитие авиационной науки и техники в
СССР» ни слова не упоминается ни о И. Г. Немане, ни о К. А. Калинине, которые
являются основоположниками советского самолетостроения на Украине.
Что работы тех лет на Украине по самолетостроению
несколько замалчивались мне было известно и раньше. В конце 1995 года член редколлегии
газеты «Правда» Спехов Е. В., случайно найдя в ворохе писем в редакцию мой
критический ответ Л. Оникову, опубликовал его в «Правде», не
изменив в нем ни слова, что, как он отметил, бывает у них довольно редко. После
этого он предложил мне написать что-либо из моей практики. Я рассказал вкратце
о Немане и он предложил мне написать статью о нем и дать им фотографию Немана.
Они поместят ее в газете.
Я написал в Харьков своему студенческому
другу-однокашнику Карпину Владилену Лазаревичу и попросил его собрать материал
о Немане и о Калинине. Но я понимал, что приближается время начала выборной
кампании Президента и со статьей нужно торопиться, поскольку тогда «Правде»
будет не до исторических опусов. Поэтому, не дожидаясь материалов от Карпина, я
написал статью по материалам юбилейного издания по поводу 60-летия Харьковского
авиационного института (ХАИ), которое мне любезно прислали из института с дарственной
надписью, поскольку меня они включили в список «Их именами гордится институт»,
что мне, конечно, было весьма лестно.
Но со статьей я все-таки опоздал, да к тому же она
получилась длинноватая для газеты. Поэтому ее в редакции начали ужимать. И все
равно статья в газете не появилась, о чем я весьма сожалею. Здесь я излагаю
основное содержание статьи, дополненное материалами моего друга Карпина,
которые он собрал. Для этого он проделал огромную работу, проработав монографии
Савина В. С., Ляховецкого М. Б., Радия Полянского и периодическую печать тех
лет, изданные на Украине и посвященные истории украинского самолетостроения.
Владилен Лазаревич и его супруга Маина Степановна
Тарасова, тоже наша сокурсница, всю жизнь проработали на харьковском авиационном
заводе. Маина Степановна уже давно на пенсии, а Владилен Лазаревич еще работает
и является одним из ведущих специалистов завода, который широко отметил его
75-летие. Пригласили гостей со стороны и даже однокашников Владилена. На этот
юбилей специально поехал и я и был очень доволен за своего друга, что его так
тепло приветствовали на его родном заводе и хорошо отметили его юбилей.
Наряду с формированием вузовской науки по
самолетостроению, авиаремонтные мастерские в Киеве и Харькове наращивали
мощности и стали производить самолеты разработки К. А. Калинина.
Зарождение авиационной науки на Украине относится к
1922 году, когда профессор Г. Ф. Проскура, впоследствии академик АН УССР, создал
авиасекцию в Харьковском технологическом институте (ХТИ) на кафедре
гидродинамики, переросшей затем в авиационное отделение механического
факультета. Первый выпуск инженеров по авиационной специальности состоялся в
1928 году.
В 1930 году по решению правительства крупные инженерные
институты страны были разукрупнены и на
их базе образовалось большое число институтов технического профиля.
Индустриализация страны набирала темпы и во весь рост встала задача подготовки
отечественных инженерно-технических кадров. Проведенное разукрупнение институтов
явилось кардинальной реформой высшего образования в стране, в результате
которой к середине 30-х годов в стране появилась основная масса
инженерно-технических кадров, обеспечивших создание экономической базы страны,
позволившей выиграть одну из жесточайших войн человечества.
Среди разукрупняемых
институтов был и ХТИ, из которого образовалось шесть институтов в том
числе и Харьковский авиационный институт. Выпускник одного из первых наборов
ХТИ авиационного отделения Неман И. Г. занял место заведующего кафедрой
конструкции самолетов авиационного института. Тогда он работал на харьковском
авиационном заводе, носившем номер 135 перед войной, где главным конструктором
был Калинин.
САМОЛЕТЫ КАЛИНИНА
Свою творческую работу в качестве главного
конструктора самолетов К. А. Калинин начал на заводе в Киеве. Там он разработал
и построил свой первый самолет К-1. Это
был одномоторный моноплан с высоко расположенным подкосным крылом с двигателем
мощностью 240 л.с. Свой первый вылет совершил 26.06.25 г. В 1926 году Калинин
со своей группой переезжает в Харьков и становится главным конструктором
авиазавода. Тогда завод на своем бланке имел довольно длинное название «Наркомвоенмор. Государственное Всесоюзное объединение
авиационной промышленности. Государственный Союзный завод опытного
самолетостроения (ГРОС) Сокольники». Калинин подписывал документы так:
«Начальник ГРОС. Главный конструктор, инженер Калинин».
Переехав в Харьков, он начал модификацию К-1. Самолет
К-2 как модификация К-1 получился неудачным. А вторая его модификация К-3,
проведенная уже с участием Немана, получилась более удачной. Самолет той же
схемы имел пять посадочных мест для пассажиров и в 1928 году на международной
выставке в Берлине получил Золотую медаль. В серию пошел самолет К-4. С тем же
двигателем он имел дальность полета 1040 км со скоростью 174 км/час. Этот
самолет строился в аэросъемочном, пассажирском и санитарном варианте. Выполнял
рейсы, в основном, по городам Украины.
В августе 1929 года
этот самолет «Красная Украина» с пассажирами на борту осуществил перелет до Иркутска
по маршруту протяженностью 10 тыс. км.
Об этом как о большой победе отечественной авиации писали все газеты. 1
мая 1929 года семь самолетов К-4 в групповом полете перелетели через Кавказские
горы и приземлились в Сочи, а до этого один К-4 долетел до Алма-Аты за три дня.
Так осваивались аэрофлотские трассы внутри страны отечественными самолетами. В
трех модификациях было построено 22 самолета.
18 октября 1930 года состоялся первый вылет самолета
К-5. На нем был установлен отечественный двигатель М-22 мощностью 480 л.с. и
поднимал он два человека экипажа и восемь пассажиров. Этот самолет
эксплуатировался в Аэрофлоте вплоть до начала 40-х годов. За 1930—34 годы было
построено 260 таких самолетов. На нем впервые был применен у нас управляемый в
полете стабилизатор. За создание этого самолета Калинин был награжден орденом
Трудового Красного знамени. Самолет К-6 был спроектирован для перевозки матриц
газеты «Правда» и в 1930 году прошел испытания.
Вершиной творчества Калинина был самолет К-7. Это был
самый большой в мире самолет того времени и первый в мире пассажирский самолет,
выполненный по схеме летающего крыла. У него не было фюзеляжа в прямом его
понимании. Вместо него от крыла шли две хвостовых балки, а экипаж из 12-ти
человек и 128 пассажиров находились в толстом крыле. Самолет имел семь
двигателей М-34Ф, каждый мощностью по 830 л.с. Размах крыла составлял 53 м, а
длина фюзеляжа 28,19 м, максимальная скорость 204 км/час, взлетная масса 36
тонн и дальность полета 3300 км. Один из двигателей был толкающей схемы. Это
был по своим параметрам современный пассажирский самолет. В военном варианте —
тяжелый дальний бомбардировщик с бомбовой загрузкой 10 тонн и 12-ю огневыми
точками самообороны. Помимо оригинальнейшей компоновочной схемы в этом самолете
был реализован ряд новых конструктивно-технологических решений. Так его каркас
изготавливался из хромо-молибденовых труб, впервые были применены серворули. На
земле всех поражали колеса шасси. Они были впервые баллонного типа и диаметром
два метра. Наша промышленность уже в то время смогла изготовить такие колеса.
Этот самолет был спроектирован в 1930 году. В 1931 году Реввоенсовет СССР
утвердил проект К-7 и принял решение о его строительстве. На заводе в Харькове
под него был построен специальный цех. Рабочие чертежи были переданы в
производство в октябре 1932 года и
29 мая 1933 года самолет К-7 выкатили на летное поле. Он был построен
всего за восемь месяцев. Для такого гиганта это был рекорд производительности в
самолетостроении. 21 августа 1933 года К-7 осуществил свой первый вылет. После
этого было осуществлено 12 полетов, в течение которых этот самолет показал себя
вполне работоспособным. 21 ноября при полете на максимальную скорость самолет
разбился. Погибли 15 человек. К сожалению, этот проект после такой катастрофы
закрыли, а Калинина в 1934 году перевели в Воронеж. Прискорбно, что об этом
самолете в технической и публицистической литературе практически ничего не
пишется. Даже мы, когда учились в ХАИ, о нем ничего не знали. А ведь он
значительно предвосхитил туполевского «Максима Горького». Правда и судьба у них
оказалась одинаковой.
НЕМАН В ПРЕДВОЕННОМ ХАИ
Немного биографических данных о Немане И. Г. Родился
он в семье столяра 26.02.1903 г. в г. Белостоке. Мать была швеей. Братья
работали рабочими. Учился по 1920 год с тремя перерывами, связанными с войной и
плохим материальным положением. Сдал экзамены за 8-классную гимназию. Последние
два года зарабатывал уроками.
6.08.1920 г. с приходом Красной Армии, вступил
добровольцем в Красную Армию в полевой отдел политотдела 4-й армии. Служил политпросветработником в политотделе 4-й армии, затем в политуправлении
Харьковского военного округа и потом в политуправлении Украинского военного
округа. 15.09.1922 г. демобилизовался и был направлен на учебу в ХТИ. Учась в
институте, работал библиотекарем в центральном партклубе и в клубе им. М. И.
Калинина.
29.11.1926 г. будучи студентом 4-го курса, поступил
копировщиком в опытный отдел авиазавода, где главным конструктором был Калинин.
Здесь проработал до мая 1931 года, последовательно занимая должности
чертежника, начальника конструкторской бригады, начальника отдела и затем
заместителя главного конструктора. С образованием ХАИ занял должность заведующего кафедрой конструкции
самолетов. В феврале 1936 года назначается главным конструктором авиазавода №
135, а руководить кафедрой остается по совместительству. Неоднократно бывал в
заграничных командировках, начиная с 1929 года на международной выставке в
Берлине. Как член Государственной комиссии по изучению авиатехники четыре
месяца пробыл в США в 1935 году, а затем во Франции. В начале 1938 года
утвержден в ученом звании профессора, а к концу года арестовывается. В июне
1942 года освобожден из заключения.
Конструкторской работой Иосиф Григорьевич начал
заниматься будучи еще студентом, когда он поступил к Калинину в качестве копировщика.
Его недюжинные способности очень быстро проявились в работе и его
конструкторский талант креп от года к году. Уже в приемном акте самолета К-3
стояла фамилия конструктора — Неман И. Г. Поэтому не удивительно, что всего за
три года после окончания института в 1928 году он к 1931 году стал заместителем
Калинина. Так же понятно, почему инженеру с трехлетним стажем доверили
возглавить в 1931 году одну из профилирующих кафедр Харьковского авиационного
института.
Придя в институт уже сложившимся конструктором, он не
оставил конструкторской работы и совместил ее с вузовским обучением студентов.
При работе в КБ у него сформировалась своя идея и облик принципиально нового
пассажирского самолета. Без всякой раскачки он приступил к его разработке с
помощью студентов, которые выполняли курсовые проекты по тематике этого
самолета. Основную группу разработчиков составили Арсон Л. Д., Еременко А. П.,
Гавранек Н. К., Резник Л. Г., Морозов К. Г. Ведущим в этой группе был Арсон Лев
Давидович.
Калининские пассажирские самолеты, включая и К-5, были
подкосные высокопланы. Неман в своем самолете применял только начинавший
входить в практику самолетостроения, свободонесущий моноплан с низкорасположенным крылом и фюзеляж
сигарообразной формы с хорошим обтеканием. Это предопределило высокие
аэродинамические качества самолета. К этому добавилась гладкая обшивка, которую
применил Неман вместо широко применившейся тогда алюминиевой гофрированной
обшивки. На ХАИ-1 обшивки крыла, фюзеляжа и оперения были выполнены из фанеры.
Самолет вмещал семь человек пассажиров. Начали его проектировать в 1932 году, а
через полтора года взлетел первый экземпляр самолета, получивший индекс ХАИ-1 и
который стал впоследствии знаменитым на всю страну. Начиная с 1932 года постройка
этих самолетов велась на Горьковском авиационном заводе, а затем на авиазаводе
в Киеве. Эти самолеты успешно эксплуатировались на линиях Аэрофлота вплоть до
войны.
К 1934 году максимальная скорость была доведена до 324
км/час, что было соизмеримо со скоростью истребителей того времени. Это произвело
фурор в авиационном мире. О нем стали говорить и писать в большой прессе. На
этом самолете Неман впервые в Европе разработал и применил убирающееся в полете
шасси. Оно вначале убиралось вручную и доставляло немало хлопот. Также было
достигнуто высочайшее аэродинамическое качество и не в последнюю очередь за
счет гладкой обшивки. Кроме того на этом самолете летчика упрятали под
остекленный фонарь. На первых самолетах ХАИ-1 пилот сидел в открытой кабине,
как тогда было распространено в авиации. Все это дало блестящие результаты. За
создание этого самолета Неман был награжден орденом Красной звезды, а остальные
участники работ были награждены ценными подарками и денежными премиями. Самолет
ХАИ-1 имел отечественный двигатель М-22 мощностью 480 л.с. и развивал рекордную
скорость полета. По этому показателю самолет занимал первое место в Европе и
второе в мире. В газете «Известия» 7 февраля 1933 года была опубликована статья
«Первое место в Европе», в которой давалась высокая оценка конструкторских и
летных качеств самолета. В журнале «Самолет» № 4 за 1934 год отмечалось, что
этот самолет по своим летно-техническим характеристикам превосходит все самолеты
гражданской авиации страны и ставит нас в один ряд с передовыми странами.
Учитывая достигнутые Неманом результаты при создании
им первого же самолета, по решению правительства при ХАИ организовывается
опытно-конструкторское бюро под его руководством. Таким образом в Харькове
сложился второй центр по разработке самолетов в дополнение к имевшемуся на
авиазаводе под руководством Калинина. С созданием ОКБ при ХАИ во всю ширь
развернулись творческие способности Немана. Неман не был бы Неманом, если бы в
своем техническом творчестве шел по проторенной дороге. Он был новатором во
всем, чем занимался.
В 1934 году Неман
создает самолет бесхвостой схемы в параллель с летающим крылом К-7 Калинина.
Этот самолет, получивший индекс ХАИ-4, был предназначен для изучения динамики
полета самолета такой необычной схемы. До этого строились только планеры
бесхвостой схемы. На нем Неман убирает шасси уже с помощью гидравлики и впервые
вводит систему синхронизации уборки передних и заднего колеса шасси. Этот самолет
по своей форме напоминал планер. Двигатель М-11 мощностью 100 л.с. располагался
за кабиной летчика, в которой за сидением летчика располагалось еще два кресла
для пассажиров.
В
1936 году разрабатывается скоростной двухместный разведчик-легкий бомбардировщик ХАИ-5. Имея мотор меньшей
мощности, он развивал скорость на 100 км/час
больше, чем самолет разведчик этого типа, находящийся на вооружении. Этот самолет
пошел в серию с 1939 года под индексом Р10. На Харьковском авиазаводе перед
войной было построено 490 таких самолетов. В этом же году был построен самолет
ХАИ-6 этого же класса, который при испытаниях показал скорость 429 км/час, что
явилось мировым рекордом для самолетов с экипажем два человека. На этих
самолетах Неман разработал и применил управляемые в полете лопасти винтов, что
было новинкой в то время. Такие винты получили название винтов с изменяемым шагом.
В процессе работы над
самолетами ХАИ-5 и ХАИ-6 у Немана сформировалась главная идея его жизни —
создание нового типа боевого самолета — самолета штурмовика. Его облик он
сформировал в 1936 году в проекте самолета, который он назвал «Иванов». Боевой
самолет-штурмовик, первый в нашей стране, разработанный Неманом, ХАИ-52 пошел в
серию также в 1939 году, но без его участия. В 1938 году он был арестован.
Ильюшин, после ареста Немана, подхватил идею самолета-штурмовика и создал свой
знаменитый Ил-2, явившийся грозой для фашистов в Отечественную войну. В своих
воспоминаниях Ильюшин признает приоритет Немана в создании самолета-штурмовика,
но к нему добавляет еще и фамилию Иванова. Но это была не фамилия еще одного
конструктора, занимающегося разработкой штурмовиков, а название проекта
самолета-штурмовика все того же Немана.
Всего за семь лет
активной работы, которые отвела ему судьба, Неман разработал и построил семь
типов самолетов, два из которых строились серийно при нем, а два пошли в серию
уже после его ареста. Такая творческая отдача мало у кого была в то время среди
авиационных конструкторов. Журнал «Самолет» в № 8—9 за 1934 год писал: «По размаху
авиационной мысли, в смелости поставленных проблем, по культуре качества
строящихся самолетов конструкторы ХАИ вправе претендовать на первое место в
Союзе». Новаторские конструкторские решения при создании новых самолетов марки
ХАИ сыграли значительную роль в развитии отечественного самолетостроения. Имя
руководителя этих работ Иосифа Григорьевича Немана, по выражению академика А.
Н. Туполева, принадлежит истории советской авиации.
В юбилейном издании,
посвященном шестидесятилетию ХАИ отмечалось: «Конечно, арест И. Г. Немана
негативно сказался на работе не только коллектива завода № 135, но и института.
Он породил неуверенность, сомнения, опасения. Оценивая эти события с позиций
сегодняшнего дня, можно предположить, что научные достижения в области самолетостроения,
возможно были бы значительнее. И все же потеря даже такого крупного специалиста
как И. Г. Неман, не могла остановить творческую деятельность коллектива института
в целом. К 1938 году здесь сложился хорошо организованный коллектив авиационных
специалистов, которые настойчиво трудились над решением различных проблем авиационной
техники».
ДЕРЕВЯННОЕ
ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ
Наряду с разработкой
новых типов самолетов, Неман активно занимался научной деятельностью помимо
чтения лекций. Он был активным сторонником максимально широкого применения
древесины в самолетостроении, считая, что в грядущей войне дефицит алюминия резко
сузит возможности массового производства самолетов. В своей настойчивости он
как бы противостоял Туполеву, являвшемуся отцом отечественного металлического
самолетостроения из кольчуг-алюминия, разработанного у нас под его
воздействием. Но их творческое противостояние мирно закончилось совместной
отсидкой в одной и той же «шарашке».
Настойчивость Немана
в использовании древесины в авиации не была не замечена и уже после его ареста
нашла своих сторонников. Проектирование узлов из древесины значительно сложнее
чем из металла, поскольку дерево является анизатропным материалом, у которого
свойства в различных направлениях существенно различаются между собой. Нужны
были свои специфические методы расчета на прочность и соответствующие приемы
конструирования узлов из дерева. Это теперь составляет основу расчета и
конструирования узлов и деталей из современных наиболее перспективных
композиционных материалов. Тогда, перед войной специалистами различных
направлений была разработана специальная авиационная фанера, из так называемой
дельта-древесины и клей ВИАМ-Б3 для ее склейки. Были разработаны научные основы
расчета и конструирования узлов из древесины. Все это в значительной мере
способствовало преодолению дефицита во время войны на алюминий. В конструкции
крыльев и фюзеляжа многих истребителей в больших объемах использовалась
дельта-древесина.
Неман был настолько предан
древесине, что даже после войны в конце сороковых годов читал нам студентам ХАИ
основы проектирования самолетов с использованием древесины. Интуиция не подвела
его и в этом случае. Он как чувствовал, или уже тогда видел, что эта теория
крайне пригодится в будущем для многих конструкционных материалов.
Известно, что
теоретическая разрывная прочность на молекулярном уровне для железа составляет
порядка 1770 кг/мм2 при объемном весе 7,8 г/см3, а
реализуется в инженерной практике только порядка 170 кг/мм2. Для
полимеров молекулярная прочность составляет порядка 3500 кг/мм2 при
объемном весе примерно 1,8 г/см3, а реализуется сейчас в инженерных
конструкциях порядка 75 кг/мм2. Как видно у полимеров резервы
грандиозные. Они в два раза прочнее и почти в четыре раза легче, что является
решающим для авиации, где борьба идет за каждый грамм веса. Но проектировать
конструкции из полимеров значительно сложнее и требуются специальные приемы,
поскольку у них удельная жесткость значительно меньше, чем у металлических сплавов.
В самолетостроении и ракетостроении такие конструкции ныне находят все большее
применение и я также стал горячим сторонником их применения, освоив всю эту
премудрость, и даже написал лекционный курс «Основы проектирования конструкций
из композиционных материалов» и читал его в разных институтах. Но об этом
далее.
ПОСЛЕВОЕННОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ ХАИ
Перед войной в
живописном парковом пригороде Харькова — Померках был построен целый микрогородок,
в котором просторно разместился Харьковский авиационный институт. Во время войны
все загородные здания ХАИ были сравнены с землей. После освобождения Харькова
институт разместился в красивом, но небольшом здании в центре города на Сумской
улице. Неман оставил КБ Мясищева и возвратился в институт.
В 1944 году я приехал
в Харьков попытаться поступить в авиационный техникум. Дело в том, что будучи в
эвакуации в Омске я поступил в авиационный техникум, эвакуированный из
Днепропетровска. Но учиться в нем не пришлось. Отца отозвали во вновь
освобожденный Донбасс принимать железную дорогу от военных строителей-железнодорожников.
Как я не просил его оставить меня в Омске — ничего не помогло. Вот я и
предпринял новую попытку поступить на этот раз в Харьковский авиационный
техникум. Но мне удалось поступить на подготовительные курсы в ХАИ и в 1944
году я стал его студентом.
Вообще жизнь в Омске
в эвакуации в 1942—43 гг. оставила яркое и приятное воспоминание за исключением
известия о гибели брата на фронте. Я тогда учился в школе и летом работал на
танковом заводе, а по вечерам подрабатывал рисованием плакатов, лозунгов и афиш
в клубе им. Лобкова в железнодорожном районе. В школе меня избрали секретарем
комитета комсомола и тогда впервые моя фамилия появилась в печати.
Отец организовал нам,
школьникам, проход на железнодорожные пути, а тогда они зорко охранялись, и мы
собрали большое количество металлолома в виде изношенных тормозных колодок.
Некоторые прихватили даже несколько новых колодок. За эту работу в «Пионерской
Правде» была опубликована «благодарность товарища Сталина», как тогда было принято
публиковать такие приветствия за те или иные общественно-производственные
успехи. Благодарность была адресована директору школы, парторгу и комсоргу, где
и значилась моя фамилия.
За работу в клубе со
мной рассчитывались талонами на водку. Это была самая твердая валюта того времени.
Моя бабушка Лукерья Марковна, весьма успешно реализовывала эту водку в обмен на
хлеб совместно с реализацией выпекаемых ею картофельных лепешек. Так мы с бабушкой
вносили свою лепту в поддержание семейного рациона в питании, которое было как
и у всех далеко не блестящее. Мать, Прасковья Миновна, тогда впервые работала
кастеляншей в общежитии. До войны и после войны она нигде не работала и вела
домашнее хозяйство.
Но самое яркое
воспоминание оставило соприкасание с большим искусством. Тогда в Омск
эвакуировали Вахтанговский театр из Москвы и Сталинградский театр оперетты.
Вахтанговцы часто ставили спектакли в нашем клубе Лобкова и я, как «работник
клуба», мог наблюдать из-за кулис игру великих артистов, которых до этого видел
только в кино. Было как-то непривычно находиться рядом с ними за кулисами и
наблюдать их простую человеческую жизнь и тут же видеть их потрясающую игру на
сцене.
Особенно запомнился
случай, когда ставили пьесу «Фронт» Корнейчука, она только тогда появилась. На
сцене был Плотников и, забыв текст, начал импровизировать. В этот момент я
оказался рядом с Абрикосовым и Горюновым. Они стояли и что-то обсуждали.
Горюнов, услышав импровизацию Плотникова, завертелся как волчок с визгом: «Что
он несет?! Ведь мне выходить!» И, продолжая вертеться, бранился уже потише.
Абрикосов был невозмутим и молча наблюдал эту сцену. Горюнова я тогда увидел
воочию, как в фильме «Вратарь».
Наиболее сильное воздействие на меня оказала оперетта. Я тогда впервые
ее услышал и увидел, пересмотрев весь репертуар театра. Иногда, когда
переставали ходить трамваи, приходилось пешком возвращаться из Советских улиц,
где находился театр, к себе в железнодорожный район пешком, а это километров
10—15. С тех пор я был очарован и стал горячим поклонником оперетты.
Однажды даже довелось как-то побывать на одной из премьер, кстати
довольно неважной советской оперетты в Москве, по приглашению Татьяны Шмыги,
которой моя жена однажды лечила зубы.
Но когда переехал в Харьков в 1944 году и послушал опереточную классику
в тамошнем театре на украинском языке, я долго не мог восстановить свое отношение к оперетте. Так было неприятно
и дико слушать «Сильву», когда она «спивала», а не пела. И это несмотря на то,
что я сам украинец и у нас в семье всегда разговаривали на украинском языке.
Кстати, интересно такое явление. Бывая на людях вместе, мы с отцом
разговаривали с другими на русском языке, но когда в этом разговоре тут же
нужно было обратиться друг к другу, то общались и говорили мы между собой
только на украинском языке. Что это — привычка или что-то более сильное, что
может возникать между людьми?
Сейчас, прожив
пятьдесят лет в Москве, я почти разучился говорить по-украински, но украинский
язык мне понятен и теперь почти ненавистен после того, как приходится наблюдать
вакханалии, творящиеся на Украине. Такого животного национализма на Украине не
было при Советской власти, какой захлестнул мою родину. Что они творят с
людьми, забыв все то доброе, что было между нами до войны, во время войны и
после войны! Проклятие не минет их, особенно Кучму. КБ «Южное» рождало иногда
не только негодные ракеты, но выродило и Кучму. У меня в старых записных
книжках сохранились даже его телефоны, поскольку он в КБ «Южное» заведовал
испытаниями ракет, а теперь вот президентствует на моей родной Украине.
Здание на Сумской
хотя и было красивым, но тоже было полуразрушенным без остекления и отопления.
Мы сами студенты «стеклили» окна из подручных средств и материалов и, купив за
свой счет буржуйки, отапливали свои аудитории тоже «подручными» дровами. Аналогичная
ситуация была и в общежитии на Инженерной улице. Первейшей задачей было
раздобыть дрова, а потом уже лекции. Поэтому на лекции мы приходили с дровами,
кто где сможет раздобыть. У нас буржуйки не только поглощали массу дров, но и никак
не хотели выпускать дым в трубу на улицу. Они так ужасно дымили в аудиторию,
что с задних рядов было уже не видно доски. У кого замерзали руки в передних
рядах, где писались конспекты, те прямо посреди лекции отправлялись в задние
ряды греться у буржуйки.
К весне 1945 года
дело наладилось, мы буржуйки выбросили и больше к ним не возвращались. А с лета
этого года началось восстановление института в Померках. Те кто поступил в 1944
году на первый курс, а не на подкурсы, сильно пострадали. Их всех на год сняли
с занятий и послали на строительство института в Померках. Мы же работали там
наездами. Потом этих «строителей» объединили с нашим потоком и мы заканчивали
институт вместе в 1951 году. Наш же поток первым и переехал в Померки и мы
первыми защищали дипломные проекты там после войны. Сейчас это вновь
отстроенный и еще более прекрасный городок ХАИ.
Институт в 40-е годы
строился и активно вел учебный процесс. Производственно-лабораторной базы
конечно у него тогда не было никакой и мы многие лабораторные работы делали в
других уцелевших институтах. Но теоретические занятия велись на Сумской на
высочайшем уровне. Не многие выдерживали такие нагрузки. На первый курс в 1945
году было принято на наш самолетостроительный факультет порядка 300 человек. В основном это были
демобилизованные молодые люди, но уже прошедшие горнило войны и знавшие цену и
смысл жизни. После первого курса осталось около 150 человек, а окончило институт
в 1951 году всего 51 человек и среди них только было три подкурсника. Кстати из
четырех защитивших докторские степени со всего курса, было два подкурсника — я
и Янтовский Женя.
О себе я пишу.
Несколько слов и о моих однокашниках, поскольку их жизнь весьма интересна и
примечательна.
Когда мы закончили
институт, меня направили к Мясищеву в числе других. Этих троих к Мясищеву не
направили и Неман не мог ничего сделать. Дело в том, что евреев выпускников
всех разослали по тмутараканям вплоть
до Комсомольска, а то были Янтовский Женя, Кантор Боря и Колесников Леша. После
распределения Неман написал письмо Королеву и с ним направил этих троих к нему
с просьбой и рекомендацией ему принять к себе на работу эту троицу. Королев
очень хорошо принял их, поговорил с ними, заявив, что если Иосиф Григорьевич
вас рекомендует, то он обязательно бы их взял. Но, к сожалению, не может это
сделать без официального направления. Королев тогда, в 1951 году, был еще не в
силе. Но Неман знал цену уже тогда, тому, чем занимался Королев, и направил
лучших студентов к нему.
После этого визита
Кантор и Янтовский уехали в свои тмутаракани, а Колесникова все же смогли оставить
в институте в аспирантуре. Леша был заслуженный фронтовик и имел три боевых
ордена. Это ему помогло. Впоследствии он стал заведующим кафедры строительной механики
в институте. Но безвременно скончался. У нас на факультете было много
фронтовиков и они почти все очень рано ушли из жизни. Очевидно война и фронт
сказались и на таких молодых людях, какими они были тогда.
Борис Яковлевич
Кантор сейчас возглавляет филиал вычислительного центра АН Украины в Харькове,
а может уже на пенсии.
Янтовский Евгений
Иосифович создал в Харькове свою школу МГД-генераторщиков и имел значительные
тогда успехи. В то время в Москве сформировалась своя школа МГД-генераторщиков
и заместитель Председателя Совмина Кириллов, кажется, перетащил Женю в Москву и
предоставил ему трехкомнатную квартиру. В те годы Янтовский тесно сотрудничал с
Королевым, участвуя у него в работах по использованию МГД-генератов в
космической энергетике. После смерти Королева Женя стал известен на Западе и
там, в США, перевели и издали его книгу по этой тематике. После этого он ездил
по США и Европе, читал лекции. Я видел у него еще в советское время присланный
ему лично из США проект космического МГД-генератора на рассмотрение с просьбой
приехать и сделать об этом сообщение. Сейчас Янтовский где-то пропал. Говорят,
что он живет не то в Германии, не то в Голландии, где у него живет дочь.
Вернемся все же в институт.
Активно
вел занятия Неман. Он был кумиром студентов, хорошо знавших историю института,
которую он сам олицетворял. Особенно нас прельщала и вдохновляла
конструкторская довоенная деятельность в ХАИ проводившаяся под руководством Немана.
Очень интересно и
увлекательно было слушать лекции Немана, но законспектировать их в полном объеме
было практически невозможно. Это были не лекции, а рассуждения и поиск лучших
решений того или иного вопроса, излагавшегося им. Он давал логику поиска такого
решения, а не конкретное решение. Еще тяжелее было сдать ему экзамен по теории
проектирования самолетов. На экзамене он запускал в аудиторию сразу всю
группу и всем сразу раздавал билеты. При
этом разрешал тут же их читать и если кому не нравились вопросы по какой-либо
причине то разрешал выбрать тот, который понравится экзаменуемому. Они для него
не имели никакого значения для оценки знаний студента. Затем он отпускал всех
на два часа готовиться к экзамену по выбранному билету. На экзамен нужно было
принести из библиотеки книги, журналы и любую другую литературу, включая и
конспекты лекций. При этом не имело никакого значения, какие конспекты ты
принес — свои или чужие, или и те и другие одновременно. Их тематику нужно было
подобрать по содержанию каждого вопроса, имеющегося в билете. И вот начинался
экзамен. Вначале нужно было показать, что ты подобрал по каждому вопросу и
дальше разговор шел только по этим первоисточникам. Нужно было
продемонстрировать уровень твоего понимания того, что ты принес. Естественно,
что этот, с позволения сказать, экзамен, а на самом деле углубленная
техническая беседа уходила далеко за рамки содержания тех вопросов, которые
послужили исходной базой для беседы.
Неман учил нас
работать с литературой, а не зазубривать формулы и длиннейшие уравнения, как,
например, нас учили по аэродинамике. Мне лично это очень пригодилось в моей
практической деятельности. Если заниматься конструированием в полной глубине
понимания этого процесса, как создания нечто нового, а не разработки
тривиальной конструкции и выпуска рабочих чертежей для ее изготовления, то тебе
всегда придется каждый раз осваивать все новые и новые области знания. Так и
мне в процессе многолетней конструкторской работы в авиакосмической технике
пришлось освоить многие научные дисциплины, которые нам не читали в институте,
такие как проектирование и расчет теплонапряженных конструкций, полимероведение,
контактное взаимодействие твердых и жидких тел, электромагнитные и ядерные процессы,
техника и методология испытаний материалов и оборудования в реакторах и ускорителях, а также ряд других дисциплин. И это
является нормальным явлением для любого человека, занимающегося творческой
технической деятельностью. Но у нас в институтах до сих пор не учат работать с
литературой так, как учил этому Неман.
СТУДЕНЧЕСКИЙ
ХАИ-12 («СТАРТ»)
Все предвоенные годы
в институте Неман использовал реальное проектирование самолетов, как основной
метод обучения студентов. После войны институт лежал в развалинах и что-либо
подобное проводить было негде. Но я знал, что на кафедре у него велись
кое-какие проектные работы и я принял участие в них, включившись в проектирование
бесхвостки-планера. Мою фотографию с моделью этого планера я храню как память о
моей первой конструкторской работе.
В 1948 году ЦК ДОСААФ
объявил Всесоюзный закрытый конкурс на проектирование спортивных самолетов
различного назначения: одноместного спортивно-пилотажного, туристических разных
типов и учебно-тренировочного. Объявление конкурса Неман не преминул использовать
в своем учебном процессе со студентами и предложил нам принять участие в этом
конкурсе. Я собрал группу своих товарищей и мы взялись проектировать
спортивно-пилотажный самолет. Мне хотелось попробовать свои силы на проектировании
одного из наиболее трудных и сложных в техническом плане самолетов.
В свою группу я
привлек Леву Розенблюма, он делал аэродинамический и прочностные расчеты, Колю
Нестеровского, он проектировал шасси. Сам же я занимался общей компоновкой и
конструкцией всего самолета. По примеру нашей группы после этого, в институте
образовалось еще две группы на нашем четвертом курсе и одна на пятом курсе. На
нашем четвертом курсе группа Миши Минькова проектировала также спортивно-пилотажный
самолет только другой схемы, а группа Леши Колесникова проектировала четырехместный
туристический самолет. На пятом курсе группа Юры Алексеева, Сталинского стипендиата,
проектировала также туристический самолет.
Моей группой
руководил сам Неман. После лекций мы сразу же бежали в специально нам
выделенные антресоли над актовым залом и приступали к «рисованию» нашего
самолетика. Как правило, поздно вечером к нам приходил Иосиф Григорьевич,
садился за чертежную доску и, смотря на нарисованное, начинал нас каждый раз
хвалить. Но мало-помалу, поправляя то, что мы нарисовали за день, он постепенно
стирал все это и предлагал затем попробовать посмотреть «вот такое еще
решение». Следующий день мы корпели над этим решением. Вечером приходил Неман и
все начиналось сначала и появлялся еще один вариант. Так мы вводились им в азы
проектирования в течение месяца. Увидев, что мы, если еще и не «встали» на
крыло, то по крайней мере уже «легли на крыло», он поручил нас своему
сподвижнику по ХАИ-1 Арсону Льву Давидовичу, который только пришел к нам в
институт с саратовского авиационного завода, где он проработал всю войну начальником
конструкторского отдела завода. Сам Неман стал заходить к нам пореже.
Мы спроектировали наш
самолетик, назвали его «Старт» и отправили как и все группы в Жюри конкурса в
Москву. За месяц до начала занятий летом, живя у родителей во время каникул,
получаю письмо от Немана. Он пишет, что мой проект занял первое место по классу
спортивно-пилотажных самолетов и допущен ко второму этапу конкурса — разработке
технического проекта. Он предлагал мне прервать каникулы и приехать в институт.
Принято решение в институте образовать конструкторскую группу из числа
дипломников и студентов пятого курса для разработки технического проекта нашего
самолета. Мне необходимо было подготовить работу для всей этой группы в
количестве 12 человек. Можно себе представить какой это вызвало у меня восторг.
Первая же серьезная работа была признана и оценена. Я, конечно, с радостью бросил
свой не очень веселый каникулярный отпуск и умчался в Харьков.
Самолету дали индекс
ХАИ-12 и мы разрабатывали технический проект в течение двух семестров. Нам,
пятикурсникам, засчитывались все курсовые задания, лабораторки и курсовые
проекты, а дипломники по этим работам
защищали дипломные проекты. Но экзамены Неман у нас принимал, как будто
бы ничего и не было. Меня, например, он гонял до седьмого пота по высотным
характеристикам двигателей. Он знал, что эти вопросы мы с ним по «Старту» не
обсуждали, поскольку этот самолет не проектировался для высотных полетов. И так
с каждым, кто занимался этим внекурсовым проектированием.
Технический проект мы
отправили в ЦК ДОСААФ, но этот самолет так и не построили так же, как и все остальные
по этому конкурсу. По классу туристических самолетов первое место занял Сухой,
по классу учебно-тренировочных самолетов первое место занял Яковлев. Нашим
основным конкурентом по классу спортивно-пилотажных самолетов оказался
заведующий кафедрой конструкции самолетов Казанского авиационного института. Он
представил проект под своим собственным именем так же, как и Сухой, и Яковлев.
А вот Неман, вложив столько труда в наш проект, даже и не попытался этого
сделать. Все проекты от института ушли под студенческими именами. А в нашем
проекте, конечно, идея во многом была отработана немановская, поэтому,
очевидно, этот проект и занял первое место наряду с Сухим и Яковлевым по другим
классам самолетов.
Впоследствии, когда я
уже работал в ОКБ Мясищева, проект ХАИ-12 сыграл решающую роль в моей жизни, в
результате чего я остался в самолетостроении, но об этом позже.
После отправки
технического проекта, как я не просил Немана организовать изготовление этого
самолета в учебных мастерских, которые начали возрождаться в институте в
Померках, так и не смог ничего добиться. Он мне тогда откровенно сказал, что
работает над докторской диссертацией и она у него на завершающей стадии. Но ему
не суждено было защитить докторскую диссертацию. Вскоре он скоропостижно
скончался. При посещении его лежащим дома тяжело больным, он с сожалением и,
как бы извиняясь, сообщил мне, что пришел вызов на защиту диссертации, а я нахожусь
в таком вот состоянии. И самолетик твой не построил и свою диссертацию не
защитил. Я заехал к нему, возвращаясь из армии после моего увольнения из нее, после
того как мне друзья написали, что Неман тяжело болен. Вскоре его не стало. Так
и ушел преждевременно из жизни талантливейший человек. Ему жизнь сломала отсидка
в «шарашке». Не будь ее — сколько бы мог сделать полезного и нужного этот человек.
А последний, можно
сказать, его проект ХАИ-12 все же был осуществлен. В 70-х годах у нас
наконец-то началось строительство легкой авиации и, в основном, спортивно-пилотажных
самолетов. Первым из них появился Як-50. Увидев его на картинке, я был поражен.
По внешнему виду это была полная копия ХАИ-12. Когда я ознакомился с его
летно-техническими характеристиками моему удивлению не было конца. Даже шасси
было применено, как и на ХАИ-12, с хвостовым колесом. Когда мы проектировали
свой самолет у нас шли жаркие споры о схеме шасси. Я категорически настаивал,
чтобы была применена традиционная схема с хвостовым колесом, поскольку она была
на 60 килограмм легче по сравнению с уже становившейся тогда нормальной схемой
с носовым колесом. Такой проект разрабатывала группа Миши Минькова. Неман тогда
меня поддержал. И вот теперь, спустя почти тридцать лет, в Як-50 применяется
тоже хвостовая схема шасси, вопреки уже твердо устоявшейся схеме с носовым
колесом.
Дальнейшее знакомство
с этим самолетом показало, что и максимальная скорость полета у этих самолетов
совпадала буквально до километра. Мы определили расчетным путем скорость ХАИ-12
равной 340 км/час. Такую же скорость показал Як-50, которая в 80-х годах была
зарегистрирована как мировой рекорд для данного класса самолетов. Самолет Як-50
получил большую рекламу и о нем много писали. Его создатели были выдвинуты на
соискание Государственной премии. Я долго добивался от ЦК ДОСААФ ответа о
судьбе технического проекта нашего ХАИ-12, который остался у них, и знакомились
ли сотрудники Яковлева с этим проектом. Но так ничего и не добился. Никто
ничего у них не знал о судьбе того конкурса, люди давно все сменились, а в архивах,
очевидно, проект где-то затерялся. Тогда я отправил в Госкомитет по премиям
сохранившиеся у меня проектные материалы по нашему «Старту» и просил выделить
для ХАИ три места, поскольку точно такой же проект был разработан почти 30 лет
тому назад у нас в ХАИ. Это, очевидно, сыграло роковую роль в присуждении
самолету Як-50 Государственной премии. В итоге ему Государственной премии не присудили
вообще. А жаль, что наш спортивно-пилотажный первенец остался не отмеченным.
По просьбе
историографов ХАИ все материалы по самолету ХАИ-12 я отправил им, а они, как
мне поведал Карпин В. Л., все эти материалы передали в Краеведческий музей г.
Харькова. Так, что и я там стал, очевидно, архивным музейным «экспонатом».
Истории техники
известно много случаев, когда одни и те же инженерные решения возникают независимо
и почти одновременно у нескольких человек даже не знающих друг друга. Это
объясняется тем, что научное интеллектуальное творчество имеет много общих
закономерностей и базируется на одних и тех же объективных научных данных.
Разница возникает в итоговом решении в том случае, когда принимаются различные
исходные посылки. А если и они сходятся у разных людей, то и решения во многом
сходятся. Так очевидно, получилось и с самолетами Як-50 и ХАИ-12. Но чиновники
в Госкомитете по премиям этого не поняли и решили, очевидно, что если студенты
тридцать лет тому назад смогли спроектировать такой самолет, то в этом нет
ничего сложного. Они не знали, что за проектом ХАИ-12 стоял талантливейший
конструктор Неман сродни таким общеизвестным конструкторам как Сухой, Яковлев и
другие. Ведь с 1948 года по 80-е годы на Западе было построено много различных
типов спортивно-пилотажных самолетов. Но наш первый же отечественный самолет этого
класса Як-50, выйдя на мировую арену, сразу же становится лидером и
устанавливает мировой рекорд максимальной скорости — главной характеристике для
этих самолетов, не считая маневренности и управляемости. Это о чем-то ведь
говорит? Но чиновники этого не поняли.
МЯСИЩЕВ СОЗДАЕТ ОКБ-23
ВНОВЬ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
В начале 50-х годов у
нас в высших военно-промышленных кругах возникало опасение того, что фирма
«Боинг» проектировала свой стратегический бомбардировщик Б-52 с реактивными
двигателями, а у нас Туполев проектировал такого же назначения самолет на
турбовинтовых двигателях. Он категорически возражал против применения в таком
самолете реактивных двигателей. После него этот коллектив создал свои
первоклассные стратегические бомбардировщики с реактивными двигателями по
качеству и своему техническому уровню, отвечавшие требованиям 80-х годов.
Тогда же, в 1950 году, министр авиационной
промышленности Дементьев П. В., не найдя «управы» на Туполева, внес в
правительство на рассмотрение проект стратегического бомбардировщика с
реактивными двигателями, разработанный Мясищевым со студентами в Московском
авиационном институте. Правительство приняло решение о необходимости разработки
этого самолета и создания для этой цели конструкторского бюро под руководством
В. М. Мясищева.
В марте 1951 года вышло постановление ЦК КПСС и СМ
СССР об образовании ОКБ-23 В. М. Мясищева в Филях на территории авиационного
завода № 23, потом завод стал носить имя Хруничева. Для размещения сотрудников
ОКБ были выделены бытовки в сборочном цехе. К середине 50-х годов на территории
рядом с заводом для ОКБ-23 был построен комплекс инженерных, лабораторных и
производственных корпусов, где удобно разместилось конструкторское бюро
Мясищева, который в третий раз тогда начал вновь создавать свой коллектив. По
его спискам ему были возвращены практически все конструкторы, которые работали
ранее в его прежних коллективах. Но их
было мало для того, чтобы разработать такой громадный самолет в очень ограниченные
заданные сроки. Поэтому в ОКБ-23 было направлено порядка трехсот человек
выпускников различных институтов и техникумов. Было направлено 12 человек и из
числа выпускников 1951 года, в основном тех, кто принимал участие в разработке
технического проекта самолета ХАИ-12. Я не хотел ехать в Москву несмотря на то, что это было ОКБ да еще и в Москве, где я ни
разу до этого не был. Я просился в Омск на серийный завод. В Омске я был с
родителями во время эвакуации в 42-43 годах. Дело в том, что к окончанию
института я успел жениться и понимал, что в Москве мне жилья не получить. Но на
госкомиссии по распределению Неман, услышав такое от меня, прямо вышел из себя и
довольно резко заявил, что в пригороде Москвы снимешь квартиру и будешь ездить
на работу на электричке, но тебе нужно работать в ОКБ, а не на серийном заводе.
Так я попал к Мясищеву.
Нас, молодых специалистов, поселили в г. Жуковском и
мы ездили на работу в Фили вплоть до середины 50-х годов, тратя на дорогу более
пяти часов туда и обратно. А с работы мы тогда уходили не ранее 8—9 часов
вечера. Многие уезжали и довольно часто последней электричкой и бывало, заснув,
проезжали до Раменского и там досыпали в вокзале. К марту 52 года — сроку сдачи
чертежей, мы уже стали ночевать на работе на столах и на стульях. Потом нам
стали ставить раскладушки прямо в конструкторских бригадах. Этот период работы
ОКБ уже достаточно освещен в литературе и я остановлюсь только на том, что выпало
из поля зрения тех или иных авторов и в чем я лично принимал участие.
МОЛОДЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
Молодые специалисты составляли примерно 30% от общего состава конструкторов того времени. Об
их работе кратко упоминалось у писавших об ОКБ Мясищева. Но мне хотелось бы
остановиться на этом несколько подробнее на примере конструкторской бригады
центральной части крыла, где мне довелось тогда начать работать. В эту бригаду
по моей просьбе меня направил работать Бару Е. И., который был тогда начальником
конструкторского бюро каркасов — КБ-300. Мне хотелось участвовать в
конструировании наиболее важной и наиболее сложной части самолета.
Мы начали в октябре
51-го года разрабатывать конструкцию и выпускать рабочие чертежи первого самолета
М4 и закончили выпуск рабочих чертежей в марте 52-го, как и предписывалось. До
этого мы спроектировали экспериментальный «крест» — это натурные сочлененные
средняя часть крыла и фюзеляжа.
В курилках у нас тогда каламбурили: туполевцы
проектируют самолеты АНТ, а мы проектируем самолет УНТ – «утрем нос
туполевцам». В коллективе была дружная, творческая обстановка с большим чувством
патриотизма за наше ОКБ, что в значительной степени способствовало успешной
работе всего конструкторского коллектива.
Так вот посмотрим, кто и что разрабатывал в нашей
бригаде № 311 центральной части крыла. У нас в бригаде было два опытных «зубра»
— Прошкин Александр Иванович и Матузный Виктор Герасимович. Под их руководством
и велась разработка всех узлов центральной части крыла в бригаде. Начальник
бригады Матвеев Георгий Георгиевич техническим руководством не занимался, а
занимался планами, сроками, деньгами и прочими обеспечивающими работами. Он был
старым мясищевцем и уже отошел от реального конструирования, передав это более
молодым.
Основные продольные элементы крыла — лонжероны, на
которых держится крыло, разрабатывали выпускники МАИ Давлианидзе Отар и Ремизов
Иван. Продольные силовые панели, образующие профиль крыла, разрабатывали
опытные конструкторы Косенков Георгий Петрович и Федай Петр Петрович. Им
помогали кадровые техники Егорова Александра Васильевна, Куликова Лидия Дмитриевна
и Красичкова Анна Ильинична. Стыковые нервюры с фюзеляжем и концевой частью
крыла разрабатывал опытный конструктор Никитин Анатолий Иванович. Носок крыла с
воздухозаборниками для двигателей разрабатывали кадровые конструкторы Гулин Алексей
Иванович и Сипко. Конструкцию рядовых нервюр разрабатывать досталось мне, а
чертежи на них со мной выпускали выпускники Казанского авиационного института
Катя Ткачук и Равиль Максудов, а также выпускники МАИ Жора Синявский и Леша
Фролов. Закрылок разрабатывал выпускник ХАИ Альберт Кошелев. Он на ХАИ-12
разрабатывал центроплан крыла. Рабочие чертежи на закрылок он выпускал вместе с
Отаром Давлианидзе. За это время мне еще пришлось разработать и выпустить
рабочие чертежи на среднюю силовую нервюру в центроплане, на которой крепилось
сразу два двигателя. Это был очень ответственный агрегат и Мясищев дважды приходил
смотреть ее за доску ко мне, где мы и познакомились лично. Кроме этого я успел
разработать систему подвески внешнего двигателя в хвостовой части крыла и
вместе с Жорой Синявским выпустить на нее рабочие чертежи, куда вошли две
хвостовые нервюры с распорным подкосом и рамой. Копировщицами у нас работали
опытная Вескер С. И. и Валя Оводова и молоденькие из школы Рая Борисова и Женя
Друкарова.
Из этого перечня видно, что молодые специалисты в
нашей бригаде сразу же включились в самостоятельную работу и вели разработку основных
силовых элементов центроплана крыла наравне с опытными кадровыми
конструкторами. И так было во всех конструкторских бригадах, где
разрабатывались другие агрегаты и системы самолета.
После сдачи чертежей в марте 52-го года в ОКБ было
проведено общее собрание молодых специалистов, к которому я подготовил статистику
и сообщил на этом собрании. Из нее следовало, что 30% молодых специалистов
разработало и выпустило 60% всех рабочих чертежей агрегатов и систем самолета.
На это мне Назаров Г. Н. ответил вопросом:
«Может и я не выпускал чертежей?» А он,
являясь первым заместителем Мясищева, не
вылезал с конструкторских бригад и лично сам развязывал все тяжелейшие вопросы
и принимал решения по каждому сложному конструктивному узлу. На это я ему
ответил, что таких руководителей-конструкторов в бригадах, какими у нас были
Прошкин и Матузный, а их все знали в ОКБ, я в расчет не принимал, поскольку все
и старые и молодые конструкторы в бригаде работали под их руководством.
После этого совещания группе молодых специалистов, не
дожидаясь трех лет до переаттестации, повысили оклады, в том числе и мне в
нашей бригаде. Это было мое первое поощрение в служебной деятельности. А на
днях я решил при написании этих строк впервые ознакомиться со своей трудовой
книжкой с тем, чтобы уточнить некоторые даты. Так оказалось, что вся книжка с
большим вкладышем заполнена одними благодарностями, о которых я даже и не знал.
А вот этот случай с Назаровым надолго запомнился не
только мне, но и Назарову. Спустя много лет в начале 80-х годов мы с ним встретились
на похоронах нашего бывшего молодого специалиста, выпускника МАИ, прекрасного
человека и хорошего инженера Дьяченко Юрия Васильевича. Кстати, его сын женился
на дочери Ельцина, когда она работала у нас в ОКБ после окончания института.
Дьяченко к тому времени был уже заместителем Генерального конструктора и
безвременно скончался. Назаров при встрече, только увидев меня, вместо приветствия
после рукопожатия, тут же спросил: «Ну, что ты по-прежнему продолжаешь бузить?»
Очень может быть до него дошли слухи о моей позиции в развернувшихся в высших
сферах в конце 60-х годов «великих ракетных дебатах», о которых я еще расскажу.
Я ответил ему, что я никогда не бузил, а всегда, в любом вопросе занимал
принципиальную позицию в интересах дела, если был убежден в правоте своей
позиции. И. как правило, был прав, хотя это и не всем руководителям нравилось,
за что и всегда страдал, ибо самая непозволительная роскошь — это позволить
себе иметь свое мнение и собственное суждение. Но я прямо всегда ходил по жизни
и никому меня сломать не удалось, хотя и нагибали иногда крепко.
Здесь следовало бы написать о многих и многих, кто
тогда принял участие в работах по созданию мясищевских самолетов М4 и 3М, но
для этого не хватит и места в книге. Поэтому я приведу лишь фотографии
некоторых, которые мне удалось найти, с указанием, кто кем был и чем занимался
под ними.
АРМЕЙСКАЯ СЛУЖБА
Прошло несколько месяцев после сдачи чертежей и в июле
52-го года мне вручили повестку в военкомате о том, что я зачислен в кадры
Советской Армии и должен явиться по месту моей службы в 43-ю воздушную армию
Дальней авиации. И это одному мне из всего ОКБ! Об этом доложили Мясищеву и он
дал указание своему заместителю по кадрам Левицкому В. И. устранить это
недоразумение и оставить меня на работе в ОКБ.
Левицкий выяснил, что мое представление в Кадры
Советской Армии сделал Харьковский военкомат и о моем зачислении подписан приказ
министра обороны и ничего уже сделать нельзя. Мясищев сказал, что у него будет
сегодня разговор с министром обороны Василевским и если представится
возможность он поговорит обо мне. Но возможности, конечно, не представилось и
он передал, чтобы я ехал служить в армию, а Левицкому поручил любыми путями
вырвать меня оттуда.
Когда я защитил диплом и, ожидая сдачи госэкзамена
моей женой в стоматологическом институте, получил назначение в ОКБ-23, меня вызвали
в военкомат в Харькове и заявили, что я призываюсь в армию как офицер запаса.
Тогда шла война в Корее. Нам всем студентам после окончания занятий на военной
кафедре присвоили первое офицерское звание. Вот и брали молодых не воевавших
офицеров. Руководство института, после моего сообщения о моем призыве очень
резко и даже грубо повело себя с руководством военкомата, в результате чего военкомат
отдал мне все мои документы, снял меня с учета, а сам пустил дело на мой призыв.
Приказ министра обороны был подписан и направлен в Харьков на исполнение. Меня
там уже не было и меня начали разыскивать по стране. Через три месяца меня
нашли в Москве и я отправился служить под горькие слезы моей жены с тягчайшими чувствами на душе. Я не надеялся
вернуться к конструкторской работе и в мыслях прощался со столь полюбившейся
работой, к которой я стремился всей душой.
Можно было представить трагедию и моей незабвенной
жены Анны Андреевны, урожденной Талалай, тоже украинки, из города Ахтырки
Сумской области. Она была красивейшей женщиной и у меня было много соперников,
когда я ухаживал за ней. Основным моим противником был капитан из военной
академии. Но, как потом мне рассказывала жена, она отдала предпочтение мне
потому, что не хотела иметь мужа военного и скитаться по военным городкам. И
вот я получаю направление в Москву (!), она получает свободный диплом и мы
поселяемся в столице. Она устраивается на работу в поликлинику Московского института
инженеров железнодорожного транспорта, где проработала всю жизнь и стала
первоклассным врачом стоматологом. Она лечила последние четверть века только
профессорско-преподавательский состав, ничего не имея от этого кроме
дополнительной нервотрепки из-за излишней щепитильности обслуживаемого контингента. Это ей и подорвало
в конце концов нервную систему. А тогда, когда мы поженились и попали в Москву,
для нее было верхом райского счастья. И вот это все рухнуло. То от чего она
убегала, от своего капитана, к тому она и попала, только теперь к младшему лейтенанту
в какой-то Тмутаракани. Она мне всего этого не говорила, а только рыдала. Но я
то понимал причину ее горьких слез.
В армии меня направили в технический отдел ремонтного
завода 43-й воздушной армии, находившийся в Белой Церкви на Украине. Служба моя
изобиловала многими приключениями и различными поворотами, достойными
отдельного описания. Но не стоит отклоняться от основного содержания моего
повествования, поскольку эти события оказались кратким эпизодом в моей жизни.
В техническом отделе моя служба не представляла для
меня особой сложности. Ведь было практически то же производство, знакомое для
меня. Более того, я в него вносил и кое-что новое для них, что я почерпнул из
ОКБ и заводских практик. Вскоре я стал периодически замещать начальника технического
отдела майора, прекрасного человека и специалиста Халиво Эдуарда
Александровича. Через полгода, когда я находился в Москве, после того как меня
назначили ведущим инженером-технологом по освоению капитального ремонта
самолета Ту-4, мне предоставили двухкомнатную квартиру в гарнизонном городке и
предложили перевозить семью. Это вызвало бурю возмущений среди отвоевавшихся
кадровых офицеров, поскольку кризис жилищный был невероятный. Я двухкомнатную
отдельную квартиру от греха подальше уступил одному майору с большой семьей, с
которым у меня сложились хорошие отношения, а сам занял его комнату в коммуналке.
А Левицкий тем временем добивался моего
«освобождения». Ему пришлось организовать выход трех документов из различных
инстанций, но они не имели никакого воздействия, о чем я ему регулярно сообщал,
когда бывал в Москве. А ездил я в Москву, добывая на заводе № 23 документацию
на сборочные и регулировочные работы при изготовлении Ту-4, которые
изготавливались на этом заводе. Дело в том, что никакой технологической и
конструкторской документации для проведения капитального ремонта этого самолета
в войсках не существовало в отличие от других самолетов. И мне пришлось
разрабатывать ее самому, используя заводскую документацию. Я с завода вывез
семь ящиков такой документации. Мне помогали заводские работники, с которыми я
уже ранее познакомился, работая в ОКБ и запуская свои чертежи в производство на
этом заводе. Особенно Михаил Павлович Парфенов.
В итоге, Левицкому пришлось организовать выход приказа
министра обороны о моем увольнении из армии и в феврале 53-го года я вернулся в
свое родное ОКБ. После столь длительных и неприятных хлопот, которые свалились
на голову Левицкого с моим увольнением из армии, у него еще долго оставалось
неприязненное отношение ко мне. Я удивлялся столь настойчивым усилиям
руководства ОКБ по поводу моего возвращения. И только много лет спустя
начальник первого отдела Баздырев Анатолий Иванович, бывший доверенным лицом
Мясищева, рассказал подоплеку тех событий.
В течение ряда лет мы с Баздыревым были председателями
участковых комиссий по различным выборам и наши избирательные участки
находились в одной школе на разных этажах. Мы потом с ним устраивали
соревнование — кто раньше сдаст в Исполком документы о результатах выборов. Мне
только однажды удалось выиграть, но при этом пришлось тайком вскрыть урны до 22
часов и провести формальный ничего не значащий так называемый подсчет голосов,
а, главное, надлежащим образом упаковать бюллетени. У нас с ним установились в
итоге дружеские отношения. В выборах имел большое значение не сам процесс голосования
и его результат, который все равно был предопределен. Против никто практически
не голосовал, а бывало только несколько испорченных бюллетеней. Имел большое
значение сам период подготовки к выборам, когда активно работали
агитколлективы. Они выявляли и обеспечивали устранение недостатков на местах,
вскрывавшихся по жалобам избирателей. А сами выборы были уже как бы праздником,
знаменовавшим завершение длительной и напряженной работы.
Баздырев тогда мне рассказал, что оказывается Мясищев
был заместителем председателя технического комитета Жюри конкурса, где мы
участвовали со своим «Стартом». Председателем комитета был патриарх авиационной
техники Пышнов. Вот Мясищев и узнал мою фамилию, довольно редкую, когда вскрыли
конверт «Старта» после присуждения ему первого места. Когда ему доложили о моем
призыве он сказал, что этого парня надо во что бы ни стало вернуть назад, не
объясняя причин. О подлинных причинах знал только Баздырев, поскольку вся
переписка по моему делу велась через его секретный первый отдел. Вот поэтому
Левицкий и страдал, сам не зная почему.
ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ 3М 201
Буквально
накануне моего возвращения из армии сделал свой первый вылет наш
первенец М4. Об этом уже достаточно написано. За мое отсутствие был разработан
проект уже серийного самолета 3М, в котором были учтены результаты работы над
самолетом М4. Мы так же быстро выпустили чертежи и на этот самолет. В производство пошло сразу три экземпляра самолета.
Первый летный экземпляр получил номер 201, второй летный дублер 202 и третий
для статических испытаний на прочность 203.
О самолете 201 написано немного, но, вместе с тем, его
судьба весьма примечательна. Ведущим конструктором самолета 3М 201 был назначен
Матузный В. Г. и он ушел из нашей бригады. Задачи ведущего конструктора
заключались тогда, да и теперь тоже, в организации, курировании и контроле
работ в предприятии по данному типу самолета. Как правило, в ОКБ находится в
работе одновременно несколько проектов в различной стадии разработки. Каждый
самолет ведет свой ведущий конструктор. Как раз к тому времени, когда
заканчивалась сборка самолета 201 на заводе № 23, его ведущему конструктору Матузному
надо было делать дипломный проект в вечернем институте. Старые опытные
конструкторы, как правило, не имели высшего образования. Предвоенные годы и
война не дали для этого времени. Многие из них уже при нас оканчивали вечерние
институты. Поэтому Матузный не мог ехать с самолетом на летную базу в Жуковский
и попросил освободить его от самолета
201. Тогда по предложению Мясищева ведущим конструктором самолета 201 назначили
меня, а Матузного назначили ведущим конструктором самолета 202, который только
подходил к общей сборке.
Мое назначение произвело фурор на фирме. Молодого
специалиста, инженера конструктора III категории,
перескочив четыре ступени служебной лестницы, назначают ведущим конструктором
первой летной серийной машины! Особенное неудовольствие проявлял в скрытом виде
мой начальник бригады Матвеев из-за того, что мне теперь поднимут оклад, а
другие молодые специалисты тоже начнут требовать прибавки в окладах. Это для
него было наиболее трудным вопросом. Но в работе мне никто палки в колеса не
вставлял и воспринимали меня нормально, даже после того как мне однажды
пришлось нажаловаться Мясищеву на ряд начальников отделов и цехов, сдерживавших
работы.
Принял я самолет на заводе в октябре 55-го года и
укатил с ним в Жуковский, где и продолжал жить в своей комнатке 9 м2
в коммунальной квартире с семьей в три человека и няней. У нас уже появился
сын. Принять самолет пришлось с перечнем незавершенных работ и доработок
различных агрегатов и систем с объемом 980 наименований. Завод торопился
доложить о выкатке самолета на аэродром для летных испытаний. А нам предстояло
еще возиться с его доработками. Мне дали в помощники по производству великолепного
человека и знатока производства уже опытного Яковлева Виктора Ивановича. Вот мы
с ним вдвоем и организовывали все работы на летной базе и в ОКБ по подготовке самолета к первому
вылету. Сейчас штаты у ведущих конструкторов очень раздуты, несмотря на то, что
работы у них стало не больше.
ПЕРВЫЙ ВЫЛЕТ 201-го
С немалыми трудностями и мучениями мы все же закончили
подготовку самолета. У нас все время складывались резиновые топливные баки
из-за того, что конструкторы никак не могли отладить их дренажную систему.
Наконец, все было готово и я по своей инициативе составил акт технической
готовности самолета к первому вылету. Внизу подписали все конструкторские и
производственные отделы и я представил его на утверждение Мясищеву. Он долго,
молча, думал над этим актом, не спрашивая зачем и почему я составил этот акт.
Поразмыслив, он не стал его утверждать, заявив, что готовил самолет к вылету я,
вот я и должен сам и утвердить этот акт. С великим удивлением я утвердил акт
готовности самолета к первому вылету. А самолет чудом в первом же вылете чуть
не разбился. Спасло ситуацию мужество, хладнокровие и высокое мастерство тогда
уже заслуженного летчика-испытателя и Героя Советского Союза Марка Лазаревича
Галлая и второго летчика молодого Коли Горяинова, безвременно погибшего при
подъеме неправильно отцентрированного самолета Ил-18. О многом я тогда передумал.
Первое, что мне пришло в голову тогда, так это то, что
не нужно проявлять инициативу, когда тебя не просят. И мое утверждение акта явилось
«наказанием» за неуместно проявленную инициативу. Но почему этот акт ему был не
нужен, если он его не утвердил и почему он так долго думал над ним? Тогда
возникала мысль, что он уходил от ответственности. Но и в это с трудом
верилось, зная Владимира Михайловича. Тогда я пришел к единственно, очевидно,
верной мысли.
Этот акт нигде не значился в перечне необходимых
документов для первого вылета. При утверждении его Генеральным конструктором он
становился официальным документом и при аварии, все кто его подписал были бы
первыми кандидатами для поселения «в нестоль отдаленных местах». А он уже там
побывал и не хотел зря подводить людей. Утвержденный же мною акт, он мог, при
неудаче, вообще никому не показывать и тем самым спасти немало людей.
Разбирательство все равно бы выявило истинных виновников неудачи, что и
произошло на самом деле, а неудача не стала трагической.
Приключения с 201-м не ограничились на этом акте еще
до вылета. Только я утвердил этот злосчастный акт, сижу и осмысливаю произошедшее,
ко мне тихо входит скромняга Саша Щелоков — наш первоклассный механик по
двигателям. Еле слышно заявляет, что он уронил болт в двигатель в
турбокомпрессорный отсек. А на завтра назначен вылет! Других двигателей для
замены нет. Можно себе представить, что со мной произошло после услышанного.
На самолете 3М были установлены вновь разработанные
для этого самолета двигатели ВД-7
конструктора Добрынина. Они были еще недостаточно отработаны и очень часто
помпировали. Это когда выхлоп газов происходит не в выхлопное сопло, а вперед
во всасывающий канал. Этот выхлоп во всасывающий канал происходил с ударом
большой силы. После каждого помпажа при работе двигателей на земле, мне приходилось
осматривать каждую заклепку во всасывающем канале и заменять разболтавшиеся
после воздушного удара. Мы боялись попадания в двигатель даже головки заклепки,
а здесь целый болт. А Саша решил еще раз перед вылетом осмотреть лопатки
турбины двигателя, вскрыл люк на двигателе и при этом уронил в двигатель болт.
Я спросил, говорил ли он кому-либо об том и, услышав отрицательный ответ,
отослал его попытаться магнитом на шнуре выудить этот болт. Затем я пришел к
нему и мы всю ночь безуспешно пытались вытащить этот злополучный болт.
Часов в пять утра я бросил эту затею, вернулся к себе
и стал ожидать прихода руководства и летного состава на первый вылет. Я понимал,
что мне теперь суда не миновать. Тогда еще строго было с этим и я мысленно
видел себя уже в тюрьме. Вдруг ко мне врывается Саша и с радостным криком
показывает болт — он вытащил-таки! Мы побежали на машину и я вижу, что он
показывает мне болт с полукруглой головкой, а на люке все остальные болты с
шестигранной головкой. Саша опешил. Я обозлился и сказал, что он не понимает с чем шутит. Но он клятвенно
заверял, что именно этот болт он достал из двигателя. Мы ничего никому не
сказали и машину выкатили на аэродром. Молчал и я все эти годы и вот только
сейчас пишу об этом.
Все наблюдавшие вылет разместились у края бетонки, а
меня отправили в радиорубку. В соседней комнате рядом с радиорубкой расположились
ведущие специалисты по всем бортовым системам с тем, чтобы дать, в случае
необходимости, какую-либо консультацию пилотам в воздухе. Мясищев нервно
прохаживался внизу вдоль летного ангара.
Самолет легко разогнался и оторвался от земли прямо
рядом с нашим зданием. В это время я из радиорубки увидел, что один двигатель
спомпировал на левой плоскости и руководитель полета из летного института
нервно закричал — у вас пожар на левой плоскости, на что Галлай спокойно ответил,
что спомпировал двигатель, все нормально, продолжаю полет. И самолет продолжал
полет на трех двигателях. Стало видно, что самолет начал резко кобрировать —
задирать носом вверх. Рев двигателей как-то сразу сник и самолет, медленно
набирая высоту, ушел за пределы аэродрома, но видно было, что кобрирование
прекратилось.
Задание на первый вылет состояло в том, чтобы сделать
круг над аэродромом, не убирая шасси, и сесть. С воздуха доносился спокойный
голос Галлая: все нормально, продолжаю полет. Вскоре самолет приземлился и все
начали качать, подбрасывая в воздух, весь экипаж. После этого Галлай и
Мясищев отделились от толпы и
направились к испытательному корпусу. Не помню как и почему, но я увязался за
ними и мы втроем рядом шли дальше. Галлай, довольно возбужденный, начал
рассказывать.
После взлета и помпажа двигателя началось резкое
кобрирование. Полная отдача от себя руля высоты на взлете не повлияла. Кобрирование
продолжалось. Тогда пришлось на взлете убрать тягу двигателей, поскольку он
знал, что тяга двигателей, будучи приложена не по центру масс самолета, создает
кобрирующий момент. И это помогло. Кобрирование прекратилось и хватило тяги для
продолжения взлета. Затем Горяинов стал держать ногами отклоненный штурвал,
поскольку усилий рук не хватало, а Галлай одними элеронами продолжал управлять
самолетом и посадил его. Вот такое высокое знание свойств самолета и беспримерное
мужество этих людей спасло их самих и самолет. Услышав сказанное, я тут же
спросил Галлая, а почему он в полете ничего не говорил об этом, а если бы, не
дай бог, случилось бы худшее? Он посмотрел на меня с высоты своего роста и
сказал: «Молодой человек, все, что нужно записано!» И в этот момент я оглянулся
и похолодел.
Все, включая замов министра, военные, замы Мясищева
остались в толпе у самолета, давая поговорить летчику и Генеральному конструктору,
а я шел один с ними. Они оба были настолько высокоинтеллигентными людьми, что
никто из них даже не попытался дать мне понять, что мне здесь не место. Как я
слинял от них, я не помнил, но угрызения совести за допущенную бестактность
меня мучают до сих пор. Правда не только угрызения совести остались у меня
после первого вылета 201-го. К тому времени я уже изрядное количество волос на
голове потерял, а после того дня я стал седеть и сейчас уже абсолютно белый
весь, как лунь. Болт проложил первую борозду.
ДОРАБОТКА 201-го
Галлай в своих
опубликованных воспоминаниях описывает этот случай, как одно из его рядовых
летных происшествий, и не приводит такого подробного его описания. Может в этом
он и прав. У него ведь был богатейший летный опыт уже тогда. Ведь недаром он
стал шеф-пилотом космонавтов. А вот в том, что последующие доработки 201-го
были несущественными, как он пишет, уважаемый Марк Лазаревич глубоко неправ.
Очень быстро установили, что ЦАГИ дал ошибочную
рекомендацию по величине установочного угла стабилизатора. Нужно было установить
стабилизатор на угол плюс 30 минут, а он выдал установочный угол стабилизатора
минус 30 минут. Нужно было переставлять стабилизатор, на котором крепился руль
поворота в своей нижней точке. Мясищев дал мне на все это три дня.
Вместе с тем, это была не техническая ошибка ЦАГИ, а
орфографическая неточность в написании рекомендательного документа. В нем
стояло: «установочный угол стабилизатора — 30¢», а надо было либо не ставить тире, либо, если это
был бы действительно «минус», то его нужно было бы брать в скобки. У нас же
тире приняли за знак минус. Вот, что иногда может представить собой неточность
в написании документа. Это буквально созвучно с известным афоризмом без
запятой: «казнить нельзя помиловать».
За три дня нужно было спроектировать новые детали, рассчитать и
выпустить доработочные чертежи, изготовить нужные детали и провести все
демонтажные, а затем монтажные работы. Я сам произвел все нужные обмеры тех
мест, где нужно было проводить доработки, заэскизировал их на одном листке и
отвез его нашему главному прочнисту Балабуху Л. И. Нужно было отрезать часть
стыковочного узла крепления стабилизатора, его нервюры и лонжерон довольно
значительно подрезать, чтобы они не мешали повернуть стабилизатор. Все это
прочнисты за ночь обсчитали и дали добро. Конструктора по управлению вычертили
новую опору для руля поворота и она была за два дня изготовлена. А я безо
всяких чертежей по своей разметке прямо на самолете указал, что и где надо
резать. Большой мастер того времени Саша Гурьянов начал кромсать хвост самолета
по моей разметке. Узлы крепления стабилизатора были выполнены из стали с
прочностью 170 кг/см2 и толщиной 30 мм. И вот такую мощь Саша
вручную пилил прямо на самолете, только искры сыпались в разные стороны. За три
дня мы управились.
Галлай в это время подолгу, молча, стоял у самолета и
наблюдал за нашими художествами, ничего не спрашивая. Меня удивляла такая его
позиция, ведь ему завтра надо будет лететь на этом самолете, а он даже
доработочным чертежом не интересуется. Я боялся, как бы он его не попросил
посмотреть, поскольку его и в помине не было. Никто и из руководства не
интересовался, что я вытворяю на самолете. Я был полностью предоставлен сам себе
и это меня тоже крайне удивляло.
Второй вылет прошел нормально. Я составил график
заводских летных испытаний, рассчитанный на десять вылетов, как это было предопределено
директивными документами. Этот график утвердил приехавший на летную базу первый
заместитель министра Кобзарев А. А. Данный график был выполнен в срок без
существенных замечаний по конструкции самолета кроме уже отмеченного обстоятельства
со стабилизатором. По этому дефекту были проведены существенные исследования в
ЦАГИ и соответствующие конструкторские проработки у нас в ОКБ. В результате на
этом самолете был установлен специально разработанный управляемый в полете
стабилизатор с тем, чтобы в полете можно было изменять его установочный угол.
Такие стабилизаторы применял на своих самолетах еще Калинин. Это был
существенный результат заводских летных испытаний и значительная доработка
конструкции самолета, оцененная уважаемым Марк Лазаревичем как несущественная.
Но этого он мог уже и не знать, когда писал свои воспоминания.
После окончания заводских испытаний был написан
итоговый отсчет об их результатах и самолет был передан на Государственные межведомственные
летные испытания в ГК НИИ ВВС. Не ожидая завершения летных испытаний,
Государственной комиссией было развернуто серийное производство самолетов 3М и
уже 1-го мая 1957 года более двух десятков этих самолетов прошли на параде на
малой высоте над Красной площадью.
То было грандиозное зрелище. Этот гигантский самолет с
громадными, далеко отброшенными назад крыльями, пролетая на малой высоте,
закрывал собой полнеба. А тут шла бесконечная череда, казавшаяся каким-то
сказочным неземным чудовищем, медленно проплывавшим над головами.
Присутствовавшие, а затем и весь мир
были ошеломлены увиденной мощью нашей страны. Американцы воочию убедились, что
они теперь перестали быть недосягаемыми, и международные отношения во многом
потекли в ином русле. Так Фили второй раз после Совета в Филях в 1812 году
оказали существенное влияние на кардинальные судьбы нашей Родины.
Самолет 3М 201 затем успешно продолжал летать и на нем
отрабатывались всевозможные конструкторские задачи, возникавшие в процессе
дальнейших работ в ОКБ. Горяинов сумел первым на нем состыковаться в воздухе с
самолетом-заправщиком через гибкий шланг и осуществить дозаправку топливом в
воздухе. Различные экипажи на этом самолете и на втором летном экземпляре 202
поставили множество мировых рекордов, что-то около 16-ти по дальности полета и
грузоподъемности. Сейчас самолет 3М 201 стоит в музее в Монино вместе с
мясищевским красавцем — сверхзвуковым ракетоносцем дальнего действия М-50, так
и не пошедшим в дело.
На этой же 201-й машине был даже поставлен однажды
рекорд бесшабашности. На ней Горяинов совместно с другим самолетом, ведомым
летчиком Степановым, летели на «бомбежку» по сопкам около Байкала. Этот полет
выполнялся в процессе проведения конструкторских испытаний новых модификаций
определенных узлов машины. Такие работы, которые велись в ОКБ непрерывно,
требовали летной проверки. На подходе к Байкалу самолеты встретил мощный
грозовой фронт. Степанов, как положено по инструкции в испытательном полете,
пошел на обход грозового фронта, а Горяинов пошел напролом через грозовой
фронт. Как только он вошел в грозовой фронт весь корпус самолета испытал
сильнейший удар грозового разряда, а затем на борту вырубилось все
электропитание. Двигатели остановились, внутри кабины то и дело проскакивали
грозовые разряды от борта к борту. Впереди на заправочной штанге, выступающей
далеко вперед от носа самолета, сел мощный искровой непрерывный разряд, осветивший
все вокруг так, что в кабине стало совсем светло. Бортинженер безуспешно
пытался запустить двигатели. Самолет падал как сухой лист, нисколько не выходя
из плоско-параллельного положения, что было крайне удивительно для такого громадного
самолета, да и вообще для любого самолета. Чтобы так падать без двигателей
самолет должен обладать прекрасными аэродинамическими качествами и иметь
громадный запас по устойчивости, что он и демонстрировал в этой чудовищной
ситуации.
На высоте порядка 2000 м, когда они вывалились из
грозового облака, бортинженеру Ивану Царькову удалось восстановить электропитание
и запустить один двигатель, а на высоте 800 м запустился и второй двигатель.
Падение машины прекратилось, а затем запустились и остальные два двигателя.
Машина набрала нужную высоту, продолжила полет и экипаж выполнил полностью
полетное задание. После возвращения экипаж целовал землю, а Мясищев вместо
того, чтобы наказать за нарушение инструкции по проведению испытательных
полетов представил их к правительственным наградам за проявленное мужество в
чрезвычайной ситуации, позволившей выявить высочайшие летные качества самолета.
Горяинов получил Героя Советского Союза, а бортинженер получил орден Ленина.
Вот так умелые люди могут беду превратить в торжество, а поражение в победу.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КБ
После успешно завершенных заводских летных испытаний
мне было предложено остаться в Жуковском на летной базе ведущим конструктором
по летным испытаниям других самолетов. Программу летных испытаний и замеров в
полете необходимых показателей ведет и разрабатывает
ведущий инженер по летным испытаниям. На 201-м ведущим инженером был
специалист высшей квалификации Никонов Александр Иванович, которого высоко
ценил Мясищев. Ведущий конструктор должен готовить самолет к полетам. Руководству,
очевидно, понравилось как я провел подготовку самолета к первому вылету и как
обеспечивал последующие полеты. Но меня это не устраивало. Я все-таки считал себя
конструктором и хотел заниматься конструированием, а не организаторской работой
да к тому же на летных испытаниях, а не в КБ. Я просился на старое место в
конструкторскую бригаду. Руководство долго не соглашалось, обещая даже квартиру
в Жуковском вместо моей комнатенки. И только с помощью Назарова Г. Н. удалось
подписать у Мясищева мое заявление и я вернулся в свою бригаду в середине 1956
года, проработав почти год на 201-й машине.
К тому времени
в ОКБ разворачивались работы по разработке крылатой гиперзвуковой
стратегической ракеты с прямоточным двигателем и я стремился принять участие в
ее разработке. В полете корпус этой ракеты разогревался до 300°С и впервые в
авиации нужно было решать задачу создания высокотеплонапряженного корпуса
летательного аппарата. Это была интереснейшая и сложнейшая инженерная задача. В
институте нам не читали теорию проектирования таких конструкций и Балабух
прочел нам на работе объемный курс лекций по этой тематике. Занимались,
конечно, далеко не все, а определенный круг лиц, ведущих основные разработки.
Руководил всеми работами в ОКБ по этой ракете Назаров Г. Н. Поэтому я и
обратился к нему за помощью при возвращении. Мне поручили проектировать крыло
этой ракеты.
Наша бригада по моему проекту выпустила рабочие
чертежи, по которым в цехах изготовили два варианта конструкции крыла. Работая
над этим крылом, я впервые в организации осуществил тепловые испытания на
прочность образцов панелей крыла и написал отчет по этим испытаниям. Один
вариант крыла был из нержавеющей стали, из какой был изготовлен памятник
Мухиной «Рабочий и колхозница», а второй из только появившегося нового
титанового сплава. Но полететь нашей ракете было не суждено.
Аналогичную ракету создавала конструкторская
организация Лавочкина под его непосредственным руководством. По ходу работ они
шли несколько впереди нас. Все оценивали наш проект более перспективным и у
Назарова возникло желание разделить ОКБ Мясищева и выделиться в самостоятельное
ОКБ с ракетной тематикой. В силу этого, Мясищев отказался от продолжения
разработки этой ракеты, сославшись на успехи лавочкинцев, а Назарову пришлось
уйти из нашего ОКБ. Так я стал свидетелем, как и вся организация, первой
увиденной мной производственной драмы, когда друзья становятся недругами на
честолюбивой почве. Потом, к сожалению, это стало нормой в нашем ОКБ, принесшей
немало бед всему коллективу и тому делу, которым он занимался.
Производственные конфликты в мемуарной литературе
освещаются очень мало. Считается, что об этом писать неэтично, поскольку эти
коллизии касаются личностных отношений. Но это мнение весьма сомнительно.
Производственные конфликты в трудовых коллективах
встречаются сплошь и рядом как между рядовыми сотрудниками, так и между руководителями
различных рангов. Это нормальное явление, хотя и крайне нежелательное и
малоприятное. Теперь это изучается теорией конфликтных ситуаций, а наиболее передовые
организации имеют в своих штатах не только юристов, но и психологов,
системщиков и социологов. Но об этом мало пока пишут. Именно ход и развитие
конфликтов, особенно между высшими руководителями, во многом влияет на людей и
определяет моральный климат в коллективе, а если брать по большому счету то и в
стране. История знает немало конфликтов на технической и политической почве
между большими историческими личностями и к каким трагическим результатам они
приводили.
Поэтому стоит сожалеть, что в технических вузах еще
недостаточно распространено чтение лекций по теории конфликтных ситуаций и теории
управления в социальных коллективах с привлечением различных дисциплин, таких
как психология, этика, логика, риторика и др. с тем, чтобы будущим руководителям,
а не только техническим специалистам, дать основы навыков по управлению
коллективами и формированию надлежащей коллективистской морали и норм
общественного поведения. На некоторых конфликтах в нашем коллективе, к которым
мне пришлось быть причастным в той или иной мере, я еще остановлюсь.
Уход Назарова никак не
повлиял на творческую деятельность Мясищева. Но на самого Назарова его уход
повлиял значительно. Уже тогда, когда был решен вопрос о его уходе, я как-то,
зайдя в кабинет одного из руководителей, увидел в кресле Назарова. Он небрежно,
полуразвалившись сидел и был несколько выпивши. Тогда в «генеральской» столовой
для узкого круга лиц всегда были в широком выборе различные напитки, хотя он
сам лично ими на работе никогда не пользовался. Увидев меня, Назаров, явно с
сарказмом по отношению к себе, обратился ко мне: «Ну, что юное дарование,
какова цель у тебя в жизни?» Было видно, что этот вопрос он сформулировал
больше для себя и, не став ожидать от меня ответа, отвернулся. Я поняв, что у
него творится на душе, быстренько удалился из кабинета. Он уже тогда ничего
хорошего впереди для себя не видел. Его назначили главным
конструктором-начальником конструкторского бюро по стандартизации и унификации
в авиационной промышленности. Он был творческим человеком с большими идеями и,
работая в области стандартов, он так и не смог реализоваться в должной мере.
Уже перейдя туда, он пригласил меня к себе и, поговорив, предложил перейти к
нему работать в это КБ стандартизации. Но я с большим сожалением не мог на это пойти,
несмотря на то, что по работе у нас с ним сложились довольно хорошие отношения.
После ухода Назарова на
высших руководящих постах появилось ряд новых лиц и в ОКБ продолжилась
напряженная творческая деятельность. Завершалось строительство не на заводе, а
в собственной производственной базе красавца-ракетоносца М-50, который ошеломил
мировую авиационную общественность, пролетев в Тушино в 1962 году на
авиационном параде, но уже тогда, когда Мясищев вновь был отстранен от
конструкторской работы после столь блестящих достигнутых результатов. Доведен
был до макетирования проект первого в стране сверхзвукового пассажирского
самолета. Начаты были работы совместно с Королевым по космической тематике. Но
все эти работы, как и многие другие проекты, разрабатывавшиеся в ОКБ, были
прекращены в 1961 году. Мясищева убрали из ОКБ, а наш коллектив в полном
составе передали академику Челомею В. Н. на ракетную тематику. Но это будет
потом, а в то время жизнь у нас била ключом.
ПОТЕШНАЯ РАКЕТА
Как известно, в 1957 году был запущен искусственный
спутник земли. Под большим секретом Слава Вескер сказала мне, что это сделал Сережа
Королев и поведала мне многое, о чем я уже писал. Для нее Королев по-прежнему
оставался Сережей. Многое тогда от нее я узнал и об отсидке Немана. Тогда имя
Королева держалось в большой тайне. Но это для советских людей. А разведка
западных стран все это прекрасно знала. Американские специалисты также
лихорадочно торопились сами первыми свой спутник запустить. Они знали о
готовящемся у нас запуске спутника и знали время нашего запуска. Но в спешке им
невезло и они терпели неудачи при первых же запусках. А вот Королеву удалось
запустить спутник с первой же попытки и тем самым сорвать лавры первенства
открытия космической эры. Далее политики эту тему обыграли в полной мере и
сорвали грандиозные политические дивиденты на этом, может в чем-то и
заслуженные. Но зато американцы с блеском отыгрались на значительно более сложной лунной программе, а королевский коллектив с
треском провалился на такой же программе со своей несуразной ракетой Н-1, введя
государство в неоправдавшие себя многомиллиардные затраты. Это уже стало
достоянием истории.
В те времена секретомания была настолько развита, что
когда решили поставить памятник Циолковскому в Калуге, то королевскому коллективу
даже не поручили спроектировать ракету к этому памятнику, а поручили Мясищеву.
У нас эту работу поручили мне.
Это была шестнадцатиметровая ракета диаметром около
метра, которая представляла довольно солидное инженерное сооружение. Авторы
проекта категорически требовали, чтобы она была выполнена из нержавеющей стали
и блестела. Против такого решения я возражал как мог. Ведь в глянцевой
отполированной до блеска ракете будут
отражаться все окружающие предметы и она будет терять свою форму. С инженерной
точки зрения такое решение трудноосуществимо на основе использования
существующей технологии изготовления подобных конструкций из листовой стали. Но
никакие мои аргументы не возымели действия. Мне пришлось спроектировать ракету
из литых тонкостенных тюбингов из нержавеющей стали. Эти тюбинги собираются в
ракету, обтачиваются и затем вся ракета полируется. Никто в стране не мог
производить такие тонкостенные отливки из нержавеющей стали. Тогда ЦК КПСС
поручил освоить такие отливки Невскому машиностроительному заводу в Ленинграде.
Тогда даже такие сугубо технические вопросы рассматривались и решались в ЦК
КПСС, что теперь критикуется и охаивается. Может партия и не должна заниматься
подобными вопросами, но централизованный орган в системе государства должен
быть, чтобы оперативно решались вопросы, подобные этому.
После отливок тюбингов, их собрали и обточили на
Коломенском заводе тяжелого машиностроения. При обточке вскрылось на ее поверхности
несколько раковин. По рекомендации ВИАМ (Всесоюзный институт авиационных
материалов) эти раковины подварили, ракету отполировали и отправили в Калугу.
Опять-таки, исходя из секретности, нас никого даже не пригласили на открытие
памятника, несмотря на то, что ракету монтировала в Калуге наша организация с
субподрядчиками. После этого в ОКБ пошел гулять кем-то сочиненный каламбур:
Кулага Калуге сердцем мил, Кулага Калуге ракету отлил.
Спустя несколько лет мне пришлось, просматривая
иностранные журналы, увидеть на обложке одного из них красочное фото моей ракеты
с ржавыми пятнами и такими же потеками из них по всей ракете. Журнал
назидательно резюмировал, что русские, создав прекрасные ракеты и спутники, не
смогли создать хорошую ракету к памятнику своему основоположнику космонавтики.
Горько мне было читать эти справедливые строки. Мне стали ясны причины этого
позора. ВИАМ, выдавая рекомендации на подварку обнаруженных раковин, не выдал
рекомендаций на их местную пассивацию после подварки, которая предотвращает
места подварки от коррозии. После того, как эти места заржавели, их зачистили и
запассивировали и ракета продолжала стоять. Но об этих работах я узнал только
спустя много лет, когда посетил Калугу на
Циолковских чтениях, где я делал доклад. А тогда нас никто к ремонту ракеты не
привлекал, не ставил в известность и мы ничего не знали, что делается на
ракете. Я суть дела понимал тогда, но жил в неведении, полагая, что они сами
все сделают.
Завершив создание памятника Циолковскому, его авторы приступили к
проектированию стелы у ВДНХ и пригласили меня принять участие в инженерной
разработке ее конструкции. Опять они настаивали на применении нержавеющей стали
в ее конструкции. Тогда наша ракета еще не успела заржаветь в Калуге, но я
категорически настаивал на применении в ее облицовке титанового сплава вместо нержавеющей
стали или облицевать ее блоками из серого литого стекла с подсветкой стелы
изнутри. В вечернее время, будучи подсвеченной изнутри, стела выглядела бы
весьма впечатляюще. А внизу вдоль основания стелы расположить на ней горельефы,
отражающие героику освоения космоса. Но авторы были неумолимы. После этого я
спроектировал макет этой стелы из нержавейки и без горельефов внизу. Его
изготовили в нашем производстве, а я отказался от участия в дальнейших работах
по этому неразумному проекту. Потом, слава богу, и уже без меня все-же приняли
мои рекомендации, применили титан для облицовки стелы, а внизу все-таки
расположили горельефы. Сейчас стела стоит и не вызывает забот по ее эксплуатации.
Кто ее проектировал я уже не знаю.
«МИНИ-ШАТТЛ» МЯСИЩЕВА
Мясищев и Королев, очевидно, не прерывали личных
контактов и после окончания их отсидки в туполевской «шарашке». Королев очень
уважительно относился к Мясищеву. Очевидно, работа в «шарашке» Королева под
началом Мясищева оставила в душе Королева теплые чувства по отношению к
Мясищеву, который был, конечно, человеком с большой буквы и в делах и в личном
плане и в отношении к людям.
При первой встрече с ним он мог показаться сухим
человеком. Его манера говорить размеренно, растягивая слова, создавала
впечатление речи барина. Но это впечатление исчезало по мере развития беседы,
из которой становилось ясно, что этот человек знает дело и цену тому, что
говорит, нисколько не давая ощутить его «барский» тон в беседе. Мне никогда не
приходилось видеть, чтобы он мог выйти из себя и начать резко браниться даже в
самых неприятных для него ситуациях.
Мне запомнилась одна встреча с ним, когда я испытал
пару неприятных минут. Я составил график летных испытаний самолета 3М 201 и не
успел его подписать внизу у руководителей подразделений, но черновик я с ними
согласовал. В это время приехал на базу заместитель министра Кобзарев и Мясищев
вызвал меня с графиком. После его рассмотрения он удивленно спросил: почему
график не подписан? Я объяснил, что не успел, но в технике согласовал. Он
посмотрел на меня, подумал и предложил нам двоим подписать его внизу. Кобзарев
тут же его утвердил. Именно благодаря высоким человеческим качествам Мясищева я
не услышал ни тогда ни после от него и намека на выволочку за допущенное мною
упущение.
Баздырев А. И. мне однажды рассказал, как Мясищев
выбирал в 1955 году место под садовые участки для сотрудников ОКБ. Тогда постановлением
правительства, в качестве поощрения за заслуги перед Отечеством, было
предписано выделить участки под дачи и сады. Это были одни из первых
коллективных садов в Подмосковье. Мясищеву дали участок под дачу на знаменитой
Николиной горе, а сотрудникам давали в 15 км от станции Перхушково по
Белорусской дороге. Мясищев возмутился этим и потребовал участки возле станции,
поскольку люди не могут с вещами добираться за 15 км. На этом участке уже
взошла рожь, но он добился передачи нам земли под участки вместе с рожью, за
которую мы, естественно, заплатили на корню. Так и стоят эти сады поныне и в
них вырастает уже второе поколение у наших сотрудников.
А тогда, после
начала успешных полетов королевской прославленной ракеты «семерки», у нас
началось сотрудничество уже конструкторских коллективов. Королев и Мясищев
разделили между собой тематику по созданию аппарата с человеком, возвращаемого
с орбиты на Землю. Королев оставил себе аппарат, возвращающийся по баллистической
траектории, а Мясищев взял себе аппарат, возвращающийся на аэродинамическом качестве по самолетной схеме. У
Королева это получился «шарик» — известный «Восток», на которых летали
наши первые космонавты. А у Мясищева аппарат с треугольным крылом, который
затем был повторен в американском «Шаттле» и нашем «Буране».
Мясищевский аппарат имел индекс «изделие 48» и его
проект разрабатывал Дермичев Геннадий Дмитриевич наш однокашник 51-го года, но
из МАИ. Кстати, он же был проектантом первой машины М4, или как говорили, «он
рисовал компоновку самолета». Мне поручили разрабатывать корпус этого аппарата.
Чтобы представить те трудности, которые возникали тогда при его проектировании,
приведу несколько цифр. На нашей прежней крылатой ракете температура
поверхности крыла, как наиболее теплонапряженного элемента, составляла порядка
280°С, а здесь на нижней поверхности доходила до 1500°С. В носовой части доходила
до нескольких тысяч градусов так же, как на лобовой части аппарата «шарика»,
спускаемого по баллистической траектории. Если для него можно было применить
сгораемую теплозащиту, используемую из головных частей баллистических ракет, то
для крыла уносимую теплозащиту применять было невозможно с тем, чтобы не изменялся
профиль крыла в полете. Это была основная трудность при создании аппарата,
возвращаемого с орбиты на аэродинамическом качестве. Королев это понимал,
поэтому и взял себе более простой в инженерном исполнении аппарат с тем, чтобы
побыстрее организовать запуск человека в космос.
Мною были обследованы теплонапряженная конструкция из
ниобиевого сплава без теплозащиты и обычная конструкция с наружной теплозащитой.
В последнем случае возникали проблемы совместной работы металлической конструкции
и керамической теплозащиты, наносимой на конструкцию с наружной стороны.
Органическую теплозащиту применять было нельзя, поскольку она выгорала при этих
температурах. Аналитически мы установили возможность совместной работы керамической
теплозащиты, подобрав соответствующий материал. Это был очень легкий
пенокерамический материал. При этом было определено, что пенокерамическая
сверхлегкая теплозащита должна наноситься на конструкцию не сплошным массивом,
а в виде квадратов, при этом были рассчитаны их размеры.
Значительные трудности представляло определение
температур по конструкции от аэродинамического нагрева. Распределение
температур на поверхности рассчитывалось на основе небольшого числа уравнений,
решение которых не представляло больших сложностей. Температуры внутри
конструкции, под воздействием этих поверхностных теплопотоков, описываются
значительно большим числом уравнений, решение которых представляло значительные
трудности, поскольку тогда еще не было соответствующих вычислительных машин. Для
этой цели мы с Хлопковым К. использовали метод электродинамической аналогии,
суть которого состоит в том, что термические сопротивления элементов
конструкции и теплопроводность их заменяются на соответствующие им
эквивалентные величины емкостей и сопротивлений. Из них последовательно, в
соответствии с их расположением по конструкции, набирается электрическая цепь и
на ее вход подается напряжение, эквивалентное теплопотоку, идущему в
конструкцию от аэродинамического нагрева. Установившееся распределение напряжения
в элементах электрической цепи будет соответствовать распределению температур
между этими элементами. Используя этот метод, мы быстро получили нужные результаты,
чем удивили даже нашего уважаемого главного расчетчика Балабуха. Мне кажется,
что этот метод с успехом может использоваться и сейчас, поскольку он дает
быстро и в наглядной форме результаты. Несколько лет тому назад один наш
товарищ доложил вскользь об этом методе на Циолковских чтениях в Калуге, так им
заинтересовались американцы. Сейчас уже я сам написал подробную статью об этой
работе и направил в ЦНИИМАШ. Они предложили мне сделать по этой работе доклад
на их юбилейной сессии, посвященной пятидесятилетию института.
В процессе работы над проектом «48» мы активно
обменивались с королевскими конструкторами сведениями о ходе работ. Мы знакомили
их с нашими наработками, а они со своими по их «шарику». Но если «шарик»
воплотился в «Восток», то наши наработки пошли прахом. А мы, между тем, к тому
времени вышли на тепловые испытания образцов конструкции с теплозащитой в струе
реактивного двигателя.
Спустя десять лет, когда мне потребовалось к защите
кандидатской диссертации иметь авторские свидетельства на изобретения, а раньше
не было принято писать заявки на изобретения, я подал заявку на носок крыла
этого аппарата и на плиточную теплозащиту. Тогда еще «Шаттл» не упоминался в
литературе и не начинался проектироваться. Мне выдали авторское свидетельство
только на носок, а на плиточную теплозащиту отказали. Так наша страна потеряла
приоритет на эту теплозащиту, затем реализованную в «Шаттле» и повторенную в
нашем «Буране».
В 90-х годах у нас в КБ завелся историограф, который
начал публиковать статьи о прежней деятельности нашей фирмы. Он описал как-то
часть моих работ и опубликовал статью в 1992 году в газете «Советская Россия».
Эту статью «Неизвестный «Буран» я приведу ниже. А судьба этого историка тоже
оказалась плачевной, как и всякого инициативного и умелого человека у нас.
После серии опубликованных статей его на фирме не стало.
Мои статьи о технических результатах работы,
проведенной тогда по «Мини-Шаттлу», были опубликованы мной много лет спустя в
журнале «Космонавтика и ракетостроение» № 11 за 1997 год и в журнале «Техника
воздушного флота» № 5 в том же году. Редакция этого журнала внесла в текст моей
статьи фразу о том, что «многое из приобретенного опыта позже помогло
специалистам авиационной промышленности в начатых работах по космическому
самолету «Буран».
Я возражал против внесения этой фразы, поскольку не
знал об этом. Мне сообщили, что это предложили разработчики «Бурана», у которых
моя статья была на рецензии. Некоторые из их сотрудников работали в свое время
у Мясищева и были знакомы с моими тогдашними работами.
САМОЛЕТ-«НЕВИДИМКА»
Работая над корпусом нашей крылатой ракеты, а потом и над
корпусом проекта «48» пришлось обследовать все мыслимые и немыслимые
термостойкие конструкционные материалы, из которых можно было бы соорудить
корпус. Даже фарфор рассматривали. В процессе этих рассмотрений я особенно
выделил и остановился на слоистых пластиках, как тогда называли
стеклотекстолиты, а сейчас называют композиционными материалами. Тогда
Андриевская Г. А. и академик Буров создали лабораторию анизатропных структур и
на основе стеклянных моноволокон разработали технологию получения из них моношпона
путем намотки непосредственно из расплава стекла. Набирая из нескольких слоев
этого шпона нужную толщину можно получить материал с требуемыми свойствами в
любом направлении. Материал назвали СВАМ — стекловолокнистый анизатропный материал.
Сейчас эта технология полностью используется для получения углепластиков во
всем мире с той разницей, что стекловолокно заменено на углеволокно. Эти
материалы являются сейчас наиболее перспективными и высокоэффективными
конструкционными материалами во всех странах, но никто не вспоминает, что в их
основе лежит отечественная технология, разработанная советскими учеными.
СВАМ уже тогда обладая такими высокими свойствами, что
с ним не мог сравниваться ни один материал по прочности. Вне конкуренции он
стоял и применительно к проекту «48». Если бы начали реализовывать этот проект,
то СВАМ бы нашел свое место. Анализируя другие возможные области его
применения, я пришел к выводу, что при создании корпуса самолета из этого
материала он будет практически радиопрозрачен и его будет трудно обнаружить
радиолокатором. Шасси, двигатели и другие металлические узлы можно будет
закрыть радиопоглощающими материалами.
Обо всем этом я изложил в докладной записке Мясищеву и
он незамедлительно отреагировал на это предложение. К тому времени к нам влили
ОКБ главного конструктора Цыбина, которое разрабатывало дальний разведчик. Сам
Цыбин ушел к Королеву, а коллектив с тематикой остался у нас. Мясищев поручил
одному из замов Цыбина — Голяеву и мне развернуть проектные проработки по
созданию радионеобнаруживаемого самолета-разведчика. Мне поручил дать
предложения по кооперации в этих работах. Я переговорил в различных институтах
и представил такие предложения. Разработчиком собственно материала являлась
лаборатория Андриевской. В ВИАМе брались за разработку технологии изготовления
деталей из этого материала и разработку радиопоглощающих материалов. Завод
слоистых пластиков в Ленинграде имел уже производственную базу и брался за
поставку листов шпона для СВАМа. Но и этому проекту так же не суждено было
осуществиться. И здесь в создании радионеобнаруживаемых самолетов мы потеряли
приоритет. Американцы реализовали эту идею и эту технологию назвали «Стелс».
Моя докладная Мясищеву на одном
листике с его резолюцией хранилась у меня вплоть до конца 80-х годов, пока я ее
не сдал в музей предприятия. Когда ее увидел Полухин, бывший тогда у нас Генеральным
конструктором, то очень удивился такому документу, а потом она почему-то
«пропала» в музее, а его работники заявили, что и не получали ее. Благо у меня сохранился
отчет о возможностях СВАМ, где я излагал и идею радионеобнаруживаемого
самолета. Отчет я написал тогда в конце 50-х годов.
В разгар «звездных войн» в 80-х годах я, по
собственной инициативе, вновь вернулся к идее радионеобнаруживаемости, но на этот
раз не самолетов, а космических аппаратов. Применительно к ним задача значительно
усложнялась, поскольку снижать отражательную способность нужно было
одновременно в трех диапазонах: в видимом спектре, инфракрасном и
радиочастотном диапазонах. Мною было найдено принципиальное решение этой задачи
и проверено при лабораторных и полигонных испытаниях, которые подтвердили
правильность найденного пути и разработанных принципиальных конструктивных
решений. На эти разработки я получил пять авторских свидетельств на
изобретения. Испытание образцов в оптическом и радиодиапазоне проводил тогда
под руководством Бородулина Н. П. мой сын Игорь. О такой технической возможности
я однажды доложил на довольно крупном совещании у одного заместителя министра
общего машиностроения, но никто не смог оценить значения и задачи этой идеи.
Так она и остается нереализованной и по сей день. Может и слава богу. Если бы
мы тогда встали на путь создания невидимки-космического аппарата то американцы,
наверное, не прекратили бы бессмысленную гонку «звездных войн», испугавшись наличия
у нас оружия-невидимки в космосе. А вместе с тем, по опубликованным описаниям
изобретений США мне кажется, что они тоже работали в этом направлении. Вот чем
закончились у них эти работы в публикациях, конечно, не сообщается.
Вместе с тем, сейчас специалисты уже в открытую начали
говорить о том, что они ведут работы о снижении отражательных характеристик,
одновременно в видимом спектре, инфракрасном и радиодиапазонах. В конце марта
2000 года по телевидению представитель фирмы Сухого, при показе их истребителя
шестого поколения, заявил, что они придали своему истребителю свойства,
позволившие существенно снизить его отражательные характеристики во всех этих
диапазонах одновременно.
Я описал часть новых проектов, разрабатывавшихся у
Мясищева, в которых сам принимал участие. Но помимо них велся и ряд других разработок
таких, как использование ядерных двигателей на самолетах, тяжелой ракеты,
которую мы уже разработали без Мясищева, и ряд других, по которым их разработчики
также имели немалые творческие успехи, аналогичные тем, которые я описал, где
сам принимал участие. Но и они также пошли прахом. Хрущев «катил бочки» на
авиацию превознося роль ракетной техники и наша судьба уже была решена после
его посещения нашего ОКБ в конце 50-х годов. Нас передали Челомею В. Н. в качестве
его филиала на ракетную тематику. Мясищева, в порядке отступного, назначили
начальником ЦАГИ, сняв, ни за что ни про что, его начальника Свищева. Судьбы
многих многотысячных коллективов у нас вершились просто.
И опять в этом
может быть вновь был знак судьбы для Филей, которые уже потом, в
ракетно-космической технике, сказали свое веское слово. При создании ракетно-ядерного
щита именно наши разработки во многом обеспечили его высочайшую эффективность и
позволили нашему государству избежать значительных непроизводительных затрат.
Наиболее полно осветил жизнь и деятельность ОКБ-23 под
руководством В. М. Мясищева в своей книге «Конструктор» Павел Яковлевич Козлов,
длительное время работавший с Мясищевым. Козлов остался у нас в КБ и после
передачи нас Челомею, занимал различные руководящие посты. От нас он ушел и на
пенсию. Будучи на пенсии он написал свою замечательную книгу, написанную в
хорошем художественно-повествовательном стиле. О В. М. Мясищеве издано ряд
монографий, но одна интересная статья о нем и о нашем коллективе не вошла ни в
одну из них. Поэтому приведу ее полностью Ее авторы В. Петраков и М. Чернышов.
НЕИЗВЕСТНЫЙ «БУРАН»
(Газета «Советская Россия» 1992 г.)
На страницах
зарубежных авиационно-космических журналов в последнее время публикуется немало
материалов почти детективного толка, посвященных истории создания космических
кораблей многоразового использования — советского «Бурана» и американского «Шаттла».
Авторы приводят рисунки советских крылатых ракет и космических самолетов,
похожих на корабли многоразового использования. Что это? «Буран»? или его предшественник,
появившийся раньше «Шаттла»?
В среде
ученых бытует выражение — «работа в кипящем слое». Это когда одна и та же идея,
независимо от подданства ученых, владеет умами. Предполагая, но не зная о
конкретных результатах работы друг друга, группы исследователей ведут
напряженный поиск. Кто придет к цели раньше? Об этом мы узнаем порой спустя
десятилетия.
Многие,
вероятно, помнят картину первого появления корабля «Бурана» на Байконуре.
Белоснежный самолет-утюг разместился на спине воздушного
гиганта-бомбардировщика. Именно так «Буран» привезли с завода в казахстанские
степи. Эпизод в общем-то символический, своего рода иллюстрация к истории становления
советской ракетно-космической техники.
Недавно
рассекреченные документы свидетельствуют: еще в 1957 году в СССР разрабатывался
многоразовый воздушно-космический самолет. Автором проекта был известный
авиаконструктор Владимир Михайлович Мясищев.
Стратегические
бомбардировщики его конструкции до сих пор входят в систему обороны страны. Как
раз одну из таких машин и переоборудовали для транспортировки «Бурана».
Владимир Михайлович Мясищев родился в городе Ефремове
Тульской области в 1902 году. Окончил МВТУ имени Н. Э. Баумана. Много лет
проработал в конструкторских бюро А. Н. Туполева и В. М. Петлякова..
Специализировался на проектировании тяжелых самолетов.
Известно, что под руководством Мясищева создано
несколько выдающихся машин: высотный бомбардировщик М-2, несколько стратегических
бомбардировщиков, включая сверхзвуковой ракетоносец М-50. Об этом говорится в
энциклопедии. Упоминается также, что конструктор награжден тремя орденами
Ленина… Но вот перед нами фотография Владимира Михайловича, на ней хорошо видна
золотая звезда Героя Социалистического Труда. Однако об этом в биографической
справке — ни слова… Странно, ведь во времена, о которых идет речь, «звезд» просто
так, «к юбилею», не давали.
Фотографии мощных и удивительно красивых машин
Мясищева зарубежные издания часто печатают. Похоже, за границей знают о конструкторе
значительно больше, чем у нас. Но в зарубежных источниках речь идет лишь об
авиационной части его биографии.
Создавая новейшую авиационную технику, Мясищев
одновременно развернул работы и по ракетной тематике. Еще в начале 50-х годов
группа ученых во главе с академиком М.В. Келдышем обосновала возможность
создания сверхзвукового беспилотного летательного аппарата. Этот аппарат
отличался большой дальностью полета и значительной грузоподъемностью. По сути,
речь шла о двухступенчатой ракетно-самолетной системе, предназначенной для
поражения целей атомными зарядами.
Работы по этой системе поручили двум авиационным КБ — В. М. Мясищева
и С. А. Лавочкина, между двумя коллективами
организовали творческий конкурс. В ОКБ-23, руководимом Мясищевым, проектирование
велось по теме под индексом «40». Начаты они были в апреле 1953 года. Аппарат,
разрабатывавшийся С. А. Лавочкиным, назывался «Буря». В обоих ОКБ задачу
решали, в общем-то, по сходным конструктивным схемам. Первые ступени
представляли собой ракетные ускорители, а вторые — крылатые аппараты, снабженные
прямоточными, воздушно-ракетными двигателями.
Ракетно-самолетная «система 40» должна была стартовать
из вертикального положения.
Самолет имел дальность полета —
2300 километров, развивая скорость до 3200 километров в час. Как уже говорилось, этот аппарат проектировался
беспилотным, но на определенном этапе испытаний Мясищев намеревался
смонтировать на нем кабину для летчика. Предусматривалось катапультирование
пилота и спуск его на парашюте. Разрабатывая этот вариант, Владимир Михайлович,
вероятно, хотел выяснить особенности пилотирования гиперзвуковых самолетов,
оценить психофизиологические возможности человека при таких полетах.
В 1957 году только начинал жизнь мясищевский дальний
бомбардировщик М-50, а у Владимира Михайловича на очереди была уже другая идея
— сверхзвуковой пассажирский самолет. Мясищев всегда с большим уважением
относился к науке. По новой теме в ЦАГИ провели специальные аэродинамические
исследования, выявили основные требования к будущей машине. Самолет задумывался
в двух вариантах: пассажирском и так называемом перегрузочном. Первая машина,
рассчитанная на 100—120 пассажиров, развивала бы скорость до 2300 километров в
час. Вторая при вместимости до 50 человек могла бы разгоняться до скорости в
шесть с половиной тысяч километров в час. Мечты? Утопия? Но ведь сверхзвуковой
бомбардировщик Мясищева уже летал…
Реализовать проект гражданского самолета Владимиру Михайловичу
так и не дали. Тему у конструктора забрали, передали ее в КБ А. Н. Туполева. А
там пошли «своим путем», затеяв состязание с «Конкордом». И время на создание
советского сверхзвукового самолета было упущено, и соревнование туполевское КБ
в конечном счете «Конкорду» проиграло. Во всяком случае Ту-144 в эксплуатацию
не пошел.
В том же 1957 году изделия «40» и «Буря» были готовы к
летным испытаниям. Первой предстояло пройти проверку «Буре». Но испытания
окончились неудачей. Это сказалось и на
графике работ с «сороковкой». Ее запуски отложили, а в ноябре 1957 года
тему вообще закрыли. Дело в том, что успешно прошли пуски межконтинентальных
баллистических ракет Королева.
«Наверху» посчитали, что ракетно-самолетные системы
уже не нужны. В. М. Мясищев пробовал бороться за свое детище. В 1958 году
ОКБ-23 посетили Н. С. Хрущев и тогдашний министр обороны Р. Я. Малиновский.
Гости знакомились с новым стратегическим бомбардировщиком Мясищева М-50.
Конструктор пытался поднять вопрос о ракетно-самолетных системах, но
безуспешно. Самолеты, похоже, уже совсем не интересовали Н. С. Хрущева. Со
временем будет принято «волевое» решение о прекращении работ и по М-50, и о
закрытии некоторых авиационных КБ. Но это будет позже, а пока Мясищев продолжал
работать над самолетами М-50, М-56 и авиационно-космическими аппаратами.
В КБ постоянно рождались новые идеи не только по
конструкциям машин, но и по материалам. Так, в конце 1959 года один из сотрудников
КБ Е. С. Кулага, впоследствии доктор технических наук, обратился с докладной
запиской на имя В. М. Мясищева с предложением создать самолет, где
использовался бы так называемый стекловолокнистый анизотропный материал — СВАМ.
Самолет, имеющий внутреннюю обшивку из такого материала, становился,
«невидимым» для радиоизлучения. Его не могли засекать локаторы.
Генеральный конструктор незамедлительно отреагировал
на это предложение. Он поручил своим сотрудникам представить предложения по
переводу разрабатываемого П. В. Цыбиным дальнего самолета-разведчика на
технологию СВАМ. Увы, и эту работу в ОКБ-23 завершить не успели. А ведь
созданные в настоящее время в США самолеты-невидимки «Стелс» спроектированы по
тому же принципу, что и технология СВАМ…
Самое большое событие 1957 года это, конечно, запуск в
СССР первого искусственного спутника Земли. Эпохальное событие для Мясищева
обернулось, как уже отмечалось, закрытием работ по «сороковке». Но это никак не
повлияло на взаимоотношения В. М. Мясищева и С. П. Королева. Они познакомились
друг с другом в трудное время, были даже в одной цаговской тюрьме (факт этот из
биографии выдающихся конструкторов достаточно освещен в печати) и всю жизнь поддерживали
хорошие отношения. Главный ракетчик страны — С. П. Королев — даже в зените
своей славы неизменно тепло отзывался о Мясищеве.
Сразу после запуска первого советского спутника и С.
П. Королев, и В. М. Мясищев почти одновременно приступили к проектированию аппаратов
для полетов человека в космос. Королев
остановил свой выбор на варианте космического аппарата, осуществляющего посадку
по баллистической траектории. Мясищев же начал разрабатывать аппарат, использующий
при спуске с орбиты аэродинамические поверхности.
Оба аппарата
предполагалось отправлять в космос на королевской «семерке», знаменитом
носителе, ставшем на долгие годы рабочей лошадкой нашей космонавтики.
Контакты между ОКБ-1 и ОКБ-23 поддерживались не только на уровне их
руководителей. Сотрудники Королева часто консультировали работников ОКБ-23 по
космической тематике. Во время взаимных визитов обсуждались многие конкретные
вопросы, связанные, например, с воздействием радиации на космические аппараты.
Совместно с ОКБ-1 специалисты фирмы Мясищева рассчитали массу своего аппарата,
приведя ее в соответствие с возможностями королевского носителя. Эти расчеты
показывали, что при подъеме на орбиту высотой 400 километров аппарат может
иметь весь до четырех с половиной тонн. Если же высоту орбиты увеличить на
сотню километров, вес космического самолета на полтонны придется снизить.
Специалисты ОКБ Королева выдали коллегам рекомендации по теплозащите аппарата.
Термостойким покрытием надо было защитить почти сорок процентов поверхности
воздушно-космического аппарата от огромных температурных нагрузок, возникающих
при его возвращении на Землю.
Космический самолет начинал управляемый спуск примерно
с высоты 40 километров. У него была возможность бокового маневра в пределах ста
километров, по дальности — до двухсот километров. За счет установки
турбореактивного двигателя появляется также резервный стокилометровый запас
маневренности в боковом и в продольном направлениях.
Основные параметры будущего воздушно-космического
аппарата обсуждались с М. В. Келдышем и другими учеными. В апреле 1960 года по
этому вопросу провели совещание ведущих специалистов авиационной отрасли с
представителями ОКБ-23.
Проводились проектные проработки различных вариантов
этого аппарата. Рассматривался способ даже вертолетной посадки. Конструкторы
дотошно изучали разные виды теплозащитные материалов, а также всякие
оригинальные способы охлаждения аппарата, включая использование для этих целей
жидкого металла. Не забыли и про новые виды топлива, включая водород и фтор.
Было выдано
техническое задание на разработку катапультируемого кресла. Его масса вместе с
так называемым носимым аварийным запасом и парашютной системой не должна была
превышать 160 килограммов. Очень жесткое требование, если учесть, что креслу
предстояло выдержать двадцатипятикратные перегрузки, безотказно действовать при
лютом морозе и тропической жаре. Разработчики кресла должны были обеспечить
полную безопасность пилота при катапультировании. Кресло вылетало из аппарата
ровно через две секунды после того, как отстреливалась крышка люка.
Вторая
половина 1960 года… В США полным ходом идут работы по подготовке космического
корабля для запуска по баллистической траектории на высоту до 200 километров с человеком на борту. Но
не все ладится у американских специалистов. Даты запуска переносятся на более
поздние сроки. В Советском союзе в ОКБ Королева в это время заканчивают работы
по кораблю «Восток».
Мясищев
ищет свой путь в космос. Его разработки подчас столь оригинальны, что на
десятилетия опережают время. Лишь много позже мы увидим нечто аналогичное на
многоразовых кораблях «Шаттл» и «Буран». И в свете этого становятся совсем не
убедительными рассуждения иных западных специалистов о советских заимствованиях
американской технологии.
Работы по
проекту «48» во многом облегчались тем, что был уже опыт создания «сороковки».
Чтобы максимально облегчить конструкцию космического самолета, решили в
качестве теплозащитного материала ставить пенокерамику. Это чрезвычайно легкий
материал, но отличается большой хрупкостью. Дабы облицовка не облетела, нужно
было сделать жестким крыло. Поэтому теплозащиту как бы включили в контур крыла,
изготовив ее в виде плиток и посадив на клей. С помощью специальных приемов
обеспечили термостойкость стыков. Испытания теплозащитного покрытия на стенде в
струе реактивного двигателя показали, что покрытие надежно работает.
Все новые
конструкторские находки требовали сложных теоретических расчетов, решения
большого числа математических уравнений. Вычислительной техники в нынешнем ее
понимании еще не было, поэтому для определения распределения температур в крыле
решили использовать так называемый метод электродинамической аналогии. Суть его
состояла в том, что, разбивая конструкцию на элементы и заменяя их
электроаналогами, можно было составить электроцепь, и уже на ней рассчитывать
тепловые нагрузки. Это лишь один из примеров того, как творчески решались
многие сложнейшие проблемы. Еще в те далекие годы в КБ Мясищева поняли
преимущества слоистых пластиков. В настоящее время такие композиционные материалы
только появляются.
Конструкция носка
космического самолета представляла собой оболочку из графита, в которую вставлялись
диафрагмы из ниобиевого сплава и заливались вспенивающейся пенокерамикой. Это решение, придуманное двумя сотрудниками
КБ, было защищено авторским свидетельством. Но другие находки, в частности, та
система плиточной теплозащиты, о которой уже говорилось, так и осталась неоформленной,
и тем самым был утрачен отечественный приоритет на нее. В 1977 году
американские конструкторы применили плитки для облицовки кораблей «Шаттл».
Мясищев дожил до этого времени. Какие же чувства испытывал конструктор? Умер он
в 1978 году, оставив после себя массу новых проектов и идей, которые, возможно,
еще найдут воплощение.
«Владимир
Михайлович, — вспоминает сотрудник ОКБ-23 Л. Л. Селяков, — был человеком
своеобразным. Его знали как хлебосольного хозяина дома, чрезвычайно любившего
принимать гостей. Он отличался оригинальной манерой общаться не только с
людьми, но и с животными. По вечерам иногда рассказывал своей таксе о разных
неприятностях, советовался с ней.
Но на
работе это был пунктуальный, организованный человек, стойко переносивший
жизненные невзгоды. Любопытно, что даже в цаговской тюрьме он неизменно
появлялся на людях в чистой рубашке, весь отутюженный.
Не могу сказать точно, за что именно
арестовали Владимира Михайловича. Говорили, что вроде бы в составе одной из
делегаций он выезжал в Америку. И когда кому-то понадобилось состряпать дело,
этот факт Мясищеву поставили в вину.
А в
общем-то Владимир Михайлович был честным человеком, не терпевшим никакого
вранья. Он никогда не выдавал плохое за хорошее, не кривил душой, не занимался
подхалимажем. Как у всякого талантливого человека, у него хватало завистников.
Думаю, что именно независимость характера была причиной того, что его служебная
карьера претерпевала крутые изломы. Но при всем том он всегда оставался верным
своим техническим замыслам и идеям. Буквально до последних лет продолжал
работать над многоразовым кораблем. Начинал когда-то с маленького «Бурана», а
кончил тем, что участвовал в работах по проектированию кабины для уже теперешнего
большого «Бурана»…»
…В марте —
сентябре 1960 года в ОКБ-23 хорошо представляли себе, каким должен быть облик
космического самолета. Более того, так называемые массо-габаритные
характеристики рассчитали сразу для двух вариантов. Общая масса оборудования
составляла около 600 килограммов, полезный груз — 700 килограммов, включая вес
пилота в скафандре и катапультируемого кресла. Некоторое оборудование взяли с
«Востока», например систему связи «Заря».
Что
представлял собой воздушно-космический самолет Мясищева? Это был небольшой
аппарат со стартовой массой три с половиной тонны. Длина около десяти метров,
высота от двух до четырех метров (в зависимости от варианта), размах крыльев
семь с половиной метров. Его запуск на орбиту практически не отличался от
старта королевских «Востоков» и «Восходов».
А вот спуск
был несколько иным. Сходя с орбиты, на высоте около 40 километров космический
самолет начинал маневрирование с тем, чтобы попасть на свой аэродром. Когда
самолет опускался примерно до восьмикилометровой высоты, пилот должен был
катапультироваться. Основная парашютная система вводилась пилотом на высотах
8—3 километра. Если она вдруг не срабатывала, вступали в действие запасные
парашюты на высоте 2 километра. Аппарат же приземлялся самостоятельно на
специальную лыжу.
Способ
посадки космонавтов отдельно от аппарата бы возможет, кстати, и на «Востоке». И
именно так приземлился Юрий Гагарин. Но по каким-то секретным канонам этот факт
упорно в течение десятилетий «не раскрывали» в печати. В чем же были
преимущества того метода, который избрал Мясищев? Главное его достоинство в том,
что реализовывалась идея многоразовости. Космический самолет можно было заправить
топливом, другими компонентами и вновь отправлять на орбиту. Идея заманчивая,
но техника тех лет еще не дозрела до нее. Предпочтение был отдано более простым
вариантам.
Параллельно
с проектированием космического самолета КБ Мясищева вело работы по собственному
носителю, трехступенчатой ракете с параллельным расположением блоков. Ракета по
мощности в два с лишним раза должна была превосходить королевский носитель «Восток».
Однако в
судьбе конструктора происходит очередной резкий излом. В конце 1960 года ОКБ-23
по решению Н. С. Хрущева произвольно присоединяется к другой организации —
ОКБ-52. Этим коллективом руководил академик В. Н. Челомей. Опального В. М.
Мясищева назначают начальником ЦАГИ.
Однако и в
новом своем положении коллектив уже под руководством В. Н. Бугайского
продолжает работы по космической тематике, участвуя в создании ракеты «Протон»,
орбитальных станций «Салют».
Ныне бывшее
мясищевское КБ — теперь уже «Салют» — возглавляет Генеральный конструктор Д. А.
Полухин. Космическая тематика для этого коллектива становится основной. КБ
участвует в разработке орбитальных станций и 20-тонных транспортных кораблей,
на базе которых созданы модули типа «Квант» и «Кристалл». Сейчас эти модули
действуют в составе орбитального комплекса «Мир». «Салют» занят также модернизацией
ракеты «Протон». Скоро ее грузоподъемность увеличится с двадцати одной до
двадцати четырех тонн. Это для низких орбит. На высокие же орбиты — до сорока
тысяч километров от Земли — «Протон» сможет поднимать спутники весом четыре с
половиной тонны.
В условиях
приближающегося рынка КБ осваивает новые виды космической продукции, ищет новых
партнеров. Речь идет, в частности, о создании так называемых орбитальных
заводов. На них можно изготовлять полупроводники и лекарства, оптическое стекло
и биологические препараты. У фирмы есть солидный задел в этом плане —
двадцатитонный модуль «Технология». В отличие от других аналогичных аппаратов
на этом модуле имеется крупногабаритная спускаемая капсула. Для каких целей? В
капсуле находится часть бортовых печей, на которых и производится выплавка
скажем, полупроводников. По окончании цикла работ капсула отправляется на
Землю. Там продукцию из печей вынимают, перезаряжают их новым сырьем, и бортовые
установки можно снова отправлять на орбиту.
«Технология»
– это нынешний день космонавтики, а в планах «Салюта» значится и более мощный
орбитальный завод. Его стартовая масса сто тонн. Поднять на орбиту такой блок
на сегодня способна лишь суперракета «Энергия». Сейчас много говорят о том, что
эта ракета оказалась по сути безработной. Так вот названный завод и мог бы
стать достаточной полезной нагрузкой для «Энергии».
Советская
космонавтика прошла в своем развитии сложный путь. Были на этом пути и взлеты,
и неудачи. Нынешний этап, возможно, наитруднейший. Подобно хорошо отлаженному
механизму космонавтика пока движется вперед, но это движение больше по инерции.
Без вспрыска новой энергии машина рано или поздно остановится. Передовые позиции
нашей космонавтики завоеваны трудом тысяч энтузиастов. К их числу относился и
Владимир Михайлович Мясищев. Хотелось бы думать, что пример служения этих людей
будет образцом для нас, поможет пережить трудные времена, поднять космонавтику
к новым высотам.
КОСМИЧЕСКИЙ САМОЛЕТ МЯСИЩЕВА
|
|
Воздушно-космический
аппарат, создававшийся в ОКБ-23, представлял собой небольшой самолет
стреловидной формы с плоским днищем. В плане он имел форму почти правильного
равностороннего треугольника. По сути это было летающее крыло малого удлинения.
Управление планированием в атмосфере осуществлялось при помощи рулей высоты.
Работы по этому самолету получили название тема «48». Официально тему утвердили
в декабре 1959 года. |
|
СМЕНА ТЕМАТИКИ
ПЕРЕВОД К В. Н. ЧЕЛОМЕЮ
Академик В. Н.
Челомей принадлежал к когорте довоенных специалистов, начавших работать в
области ракетной техники. Он был самым молодым среди них, но наиболее способным
в области знания и использования математического аппарата в прикладных
инженерных вопросах. Он смог решить ряд важных математических задач в одной из
наиболее трудных прикладных инженерных областей — динамики поведения сложных
систем.
Но он не стал академическим ученым. Прекрасно понимая
инженерные задачи и проявив умение их решать, он всецело посвятил себя созданию
ракетно-космической техники.
К началу 60-х годов,
когда нас передали Челомею, он уже утвердился как признанный разработчик новых
образцов ракетной техники. Под его руководством были созданы и поступили на
вооружение Военно-Морского флота оригинальные и весьма эффективные ракетные комплексы,
которые так и не появились у американцев. Сам Челомей был уже дважды Герой
Социалистического труда, в то время как Королев тогда имел только одну Звезду
Героя. И по Государственным премиям Челомей значительно обошел Королева. К тому
времени для челомеевского ОКБ в Реутово был отстроен инженерный и
лабораторно-производственный комплекс. В общем, Челомей рос как на дрожжах и
получал такое обилие наград и привилегий, которые многим и не снились. Вызывало
удивление явное несоответствие достижений с количеством поощрений за них.
Ходили слухи, что Челомей состоит в каком-то родстве с Хрущевым. Некоторые утверждали,
что их жены являются родными сестрами. В этом косвенно однажды я мог убедиться
сам. Находясь как-то у него в кабинете, при мне позвонила его жена и он, не
попросив меня выйти из кабинета, стал обсуждать с ней как они будут отмечать
чей-то день рождения. Челомей в разговоре сказал супруге, что Нина Петровна
приедет, а он, конечно, не будет. Фамилий не произносилось, но по
имени-отчеству, можно полагать, что упоминалось имя жены Хрущева. Впоследствии
у Челомея в Реутово стал работать и сын Хрущева Сергей.
Как бы то ни было, но при Хрущеве Челомей чувствовал
себя очень вольготно и позволял себе подолгу держать в приемной не только заместителей
министра, но и секретаря ЦК Устинова Д. Ф. Это был избитый прием утверждения
своей силы и значения. После снятия Хрущева положение Челомея сильно осложнилось,
поскольку он приобрел очень много врагов вместо того, чтобы сделать их
друзьями, имея такую силу и влияние. Один Устинов чего стоил. А ведь раньше у
них были хорошие отношения. Они вместе были в комиссии в 1945 году, которая обследовала
состояние захваченного немецкого ракетного центра в Пенемюнде. Об этом Челомей
сам мне рассказывал. А потом они стали непримеримыми врагами и Устинов немало
принес вреда государству, борясь с Челомеем. Он здорово тормозил челомеевские
разработки, которые во многом были пионерские. Но Челомей все же тогда устоял.
Как-то встретившись с ним на входе в ОКБ в нерабочую субботу, он пожаловался
мне, что его везде зажимают, он уже устал и наверное уйдет в МВТУ, где у него
была кафедра. Я тогда писал кандидатскую диссертацию и он предложил свою
помощь, если нужно при защите. Но мне это не потребовалось.
В 1961 году для нас как гром среди ясного неба
прозвучало сообщение о передаче нас Челомею. Вся самолетная тематика в
деятельности ОКБ прекращалась, за исключением самолета М-50 и самолетов 3М. Самолет
М-50 надо было поддерживать в продолжавшихся летных испытаниях, а самолеты 3М
уже эксплуатировались в войсках и нужно было сопровождать их эксплуатацию. По
самолетной тематике был создан сборный комплексный авиационный отдел из числа
различных специалистов во главе с Бару Е. И. Все другие наши наработки были
просто выброшены, за исключением рабочих чертежей на сверхзвуковой пассажирский
самолет, которые были переданы в ОКБ Туполева. В своих воспоминаниях он
отмечал, что они ими не воспользовались, поскольку мало что в них поняли. Ведь
в мясищевском ОКБ не конструктора, а одни ученые и нашим смертным конструкторам
очень трудно понять их идеи. Но не только в этом ерничал Туполев по отношению к
Мясищеву. Как передавали очевидцы, он Мясищева в беседе корил: «Вот видишь,
Володя, тебя Челомей съел, а меня не смог».
То было время всеобщего погрома авиации. Хрущев,
уверовав в ракеты после успеха Королева, резко критически стал относиться к авиации.
На ракетную тематику перевели не только ОКБ Мясищева, но и ОКБ Лавочкина, а
также ряд двигательных и приборных ОКБ из авиапромышленности, сменив и у них
тематику. Кроме того, было создано ряд новых ракетно-космических ОКБ, куда
передавали разнообразную тематику, которая формировалась в ОКБ Королева.
Значение задач и их объем требовал максимального и быстрого развертывания
работ.
У нас, в ОКБ, Челомей назначил руководителем нашего
филиала, как мы теперь стали называться, своего первого заместителя Бугайского
Виктора Никифоровича. Его в свое время выжили из ОКБ Ильюшина, после того как
он там завершил разработку первого нашего магистрального пассажирского самолета
Ил-18. Это был прекрасный человек и хороший специалист. Но он впоследствии
попал в жернова аппаратных интриг и был удален Челомеем, став его ярым
противником.
После прихода Челомея, вся структура организации была
перетряхнута сверху до низу с совершенно новым построением. Появились новые
подразделения, упразднялись старые. Все заместители Мясищева ушли кроме
Нодельмана Якова Борисовича. Кто ушел по собственной воле, а кого убрали.
Появилось много новых начальников подразделений в основном из тех, кто пришел
молодым специалистом в 1951 году. Перед всеми стоял волнующий вопрос — что
будем разрабатывать? Были и такие, которые считали, что ракета — это более
простое инженерное сооружение по сравнению с самолетом и при ее создании основная
тяжесть падает на проектно-расчетные работы, а само конструирование и выпуск
рабочей документации не составит большого труда и для этого нужно будет иметь
значительно меньше конструкторов. Слава богу, эта идея не возобладала и коллектив,
в своей основной массе, был сохранен.
Конструкторские работы начались с разработки
баллистической ракеты проект «81». Проектирование и изготовление этой ракеты
было «пробой пера» для нашего коллектива и периодом его становления в новой для
него тематике.
В
ОТДЕЛ НЕМЕТАЛЛОВ
Работая в ОКБ Мясищева в течение нескольких последних
лет в области конструирования теплонапряженных конструкций, мне пришлось
глубоко вникнуть в существо неметаллических конструкционных и теплозащитных
материалов. Развивая эти познания, я вышел на слоистые пластики, о которых уже
упоминал. Поэтому за мной укрепилась репутация на предприятии, как специалиста
в области неметаллов и слоистых
пластиков. Кроме того, за мной отмечали склонность к исследовательским работам
применительно к новым, неразработанным задачам. Поэтому, очевидно, я никогда в
жизни не занимался рутинными разработками. Я постоянно брался и решал каждый
раз все новые задачи будь-то в области конструкций или материаловедения, а
затем уже и в области ядерной физики применительно к воздействию ядерных зарядов
на ракетную технику.
Занимаясь вопросом конструирования конструкций из
слоистых пластиков, мне стало тогда ясно, общепризнанное ныне положение о том,
что конструируя агрегат или деталь из композита, одновременно, и даже в первую
очередь, конструктор конструирует сам материал, который получается одновременно
с изготовлением самого изделия. В силу этого роль техпроцесса изготовления
детали из полимера, является решающей в придании детали необходимых качеств и
свойств. Поэтому конструктор, конструирующий детали и агрегаты из полимерных
материалов, должен прекрасно разбираться, в
первую очередь, в технологии полимеров. Конструирование из полимеров
принципиально отличается от конструирования из уже готовых металлических
сплавов. Вопросам технологии полимеров я стал уделять самое пристальное внимание.
В этом была еще и другая сторона дела. Как каждое
новое дело вначале находит мало сторонников и большое число противников. Такова
психология коллективистского познания. Вот также было и со слоистыми пластиками
у нас на предприятии. Скептиков было хоть отбавляй. Я видел, что убедить
кого-либо можно было только изготовив и испытав конструкцию из нового
материала. Поэтому я и уделял много внимания технологии полимеров.
При реорганизации предприятия встал вопрос о создании
комплексного материаловедческо-технологического исследовательского отдела.
Возглавить его поручили мне.
В этот отдел собрали все материаловедческие и
технологические лаборатории, находившиеся в различных структурных
подразделениях, включая цех неметаллов. Это были лабораторные подразделения службы
главного металлурга Мусатова А. А. и главного технолога Заславского Ю. Л.,
внесших затем большой вклад в организацию производства наших ракет. Но вскоре
эта прогрессивная идея не выдержала напора возражений тех, у кого отобрали эти
лаборатории и большинство их, в основном металлургического профиля, вернули в
прежние подразделения главного металлурга и главного технолога. Мой комплексный
отдел превратили в отдел неметаллических материалов с задачей освоения конструкций
из слоистых пластиков. Меня не огорчило сужение области деятельности, поскольку
слоистые пластики были моей страстью и там было далеко не мало работы.
Прежним составом отдела мы успели решить только одну
важную и интересную задачу. При аэродромной подготовке самолета М-50 к параду в
Тушино произошло разрушение трубопровода гидросистемы шасси. Мы исследовали
характер разрушения и установили причину и природу разрушения. Это был
гидроудар. Причина была быстро устранена. Нодельман, отвечавший за самолетную
тематику как заместитель Челомея, даже отмечал, что вот как быстро и
качественно все было сделано, когда во главе исследовательского отдела стоит
конструктор. Он понимает куда и как вести исследования. Это было верно и не только
по отношению ко мне, а в принципе.
Прежде чем мы взялись в отделе неметаллов за
реализацию нашей основной задачи нам устроили проверку на зрелость, поручив
совершенно новую для меня работу. Я уже писал, что Королев и Мясищев вели
разработку аппаратов, возвращающихся с орбиты, Но, оказывается, их обоих обошел
Челомей и особенно Мясищева. Если те проектировали штатный корабль с человеком
на борту, то Челомей значительно раньше их спроектировал в Реутово
крупномасштабную модель без человека для запуска на орбиту и возвращения с нее
на аэродинамическом качестве. Это была модель МП-1 длиной порядка 6—8 метров с
диаметром фюзеляжа порядка 880 мм и треугольным крылом. Хвостовое оперение было
выполнено в виде тормозного кольца с открывающимися внутри него тормозными
щитками. Модель была изготовлена в Реутово, но теплозащиту там нанести не могли
и эту работу поручили моему отделу на Филях.
В качестве теплозащиты ВИАМ разработал специальный
материал, получивший затем индекс ВШ-4. Наносить его нужно было методом
напыления под вытяжкой. После этого проводилась его термообработка при
температуре порядка 150°С, при которой он вспенивался и упрочнялся, переходя в
заполимеризованное состояние. Для этой операции изделие помещалось в большую
термокамеру. Я выдал задание на разработку и изготовление специальной
технологической тележки, в которой изделие могло бы транспортироваться по цеху
и вращаться при напылении теплозащиты. В Реутово такое устройство было быстро
разработано и изготовлено.
От нас этой работой руководили первый наш начальник
отдела неметаллов Кутумов Н. Ф. и Иваненко Алла Викторовна. Кутумов вскоре ушел
на пенсию, а Алла Викторовна многие годы являлась на фирме главным специалистом
по теплозащитным материалам.
Предстояло отработать рецептуру материала,
обеспечивающую производственное использование большого объема исходных компонентов,
создать необходимое технологическое оборудование и многое другое. Все это мы
сделали сами с участием специалистов из ВИАМа. На тормозных щитках, которые
более теплонапряженные, был применен новый кремнеземный теплозащитный материал
СТКТ-11, разработанный под руководством Белевича Игоря Святославовича в ЦНИИМАШ,
бывшем НИИ-88. Если с освоением этого материала особых сложностей не возникло,
то с ВШ-4 пришлось повозиться.
При напылении и послойной полимеризации композиции
достаточно большой толщины материал начал трескаться по кольцу. Эти трещины
равномерно располагались по длине корпуса. Это вызвало большое волнение у
руководства и тогда я впервые познакомился с Челомеем. Тщательное рассмотрение
конструкции корпуса показало мне, что стыки отсеков фюзеляжа выполнены
недостаточно жесткими и в этих местах корпус имел ступенчатые изломы, будучи
изогнутым при его закреплении в оснастке для напыления. В этих местах теплозащита
и трескалась в силу деформации корпуса, поскольку она была довольно жесткой
после полимеризации. Было принято мое предложение срезать теплозащиту в местах
трещин, оголить и усилить корпус, а затем восстановить теплозащиту в этих
местах.
Челомей торопил нас, поскольку он решил запустить эту
модель в космос в качестве подарка очередному съезду КПСС. Мы стали работать в
три смены. Я не уходил с работы три недели, ночуя в своем кабинете, и мы успели
закончить работы в срок.
Модель запустили к съезду и она благополучно вернулась
на Землю, преодолев тепловой барьер. Наша теплозащита сработала. Она была
правильно рассчитана и качественно нами изготовлена. Так был осуществлен первый
в мире спуск с орбиты на аэродинамическом качестве. Освоенные нами материалы
ВШ-4 и СТКТ-11 были основными теплозащитными материалами в ракетной технике и
использовались более двух десятков лет. А Челомею после этого не дали развить
достигнутый им успех. Аппаратные игры вокруг этой тематики приобрели такую силу,
что Челомей не смог их преодолеть. Очень жаль, что в историографии космонавтики
эта работа Челомея совсем никак не упоминается и не отмечается. Второй экземпляр этой модели так и стоит в музее в Реутово.
КОРПУС
ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ РАКЕТЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
После завершения работ по модели МП-1 мы приступили к
решению основной задачи, поставленной перед отделом — разработка технологии и
изготовление из стеклопластика корпуса головной части ракеты, в которой
располагается ядерный заряд. Изготовление такого корпуса обеспечивало ему существенное
повышение конструктивно-эксплуатационных свойств и он создавался впервые.
Мой отдел находился в составе лабораторного комплекса,
который одновременно возглавлял главный инженер производства Стопачинский Борис
Антонович. Он был прекрасным инженером и организатором, но не более. Он дал мне
полную свободу действия по выбору и принятию всех технических решений, но
пристально наблюдал за моей деятельностью и
весьма активно помогал во всем, что касалось разработки и оснащения
оборудованием отдела для проведения исследований и изготовления корпуса.
Тогда велись исследования по созданию материалов, а
соответственно и технологий для изготовления
таких конструкций, в ЦНИИМАШ под
руководством Белевича И. С. и в ВИАМ под руководством Сакаллы Мартироса Цероновича.
По первому методу корпус изготавливался из заранее пропитанных связующим материалов
путем выкладки их на специальной оправке и последующей примоткой, пропитанной
стеклонитью. По второму методу выкладка и примотка осуществлялась тем же
способом, но только сухими, непропитанными материалами, а пропитка проводилась
в специальной прессформе, куда нужно
было поместить намотанный без связующего корпус и пропитать его связующим под
давлением в прессформе.
Поработав некоторое время над этими двумя методами, я
остановился на первом, поскольку для его осуществления не требовалось создания
сложной и крупногабаритной прессформы. С целью ускорения работ, в мой отдел
министерством были направлены группы специалистов
из институтов ВИАМ, НИАТ и ЦНИИМАШ. Они были поставлены на табельный учет в
нашем отделе и мы все работали единым дружным коллективом. В мою работу никто
из начальства не вмешивался и мне работалось хорошо.
Начальником лаборатории конструкционных и
теплозащитных пластиков я назначил Каганова Леонида Александровича, из числа
таких же молодых специалистов выпуска МАИ в 1951 году, который был конструктором
по разработке фюзеляжа.
Главным химиком у нас был Рожков Анатолий Иванович. Он
теперь начальник отдела неметаллов на фирме Сухого и активно внедряет углепластики.
Теплозащитой занималась Иваненко, а разработкой оправки для намотки корпуса
занимались Кишнев Леонид Александрович и Куников Юрий Цезаревич, сын знаменитого
героя Малой земли Цезаря Куникова. Иваненко и Кишнев сейчас на заслуженном
отдыхе, а Куников работает в НИИ при МВТУ и стал кандидатом технических наук.
Работы начали с разработки и изготовления оборудования
и оснастки для подготовки и переработки исходных материалов, выкладки стеклоткани,
примотки и механической обработки. Особые сложности имели работы по созданию
разборной оправки для выкладки корпуса. После полимеризации корпуса, оправку нужно
было разобрать и извлечь из корпуса. Мы пошли двумя путями. Создали сложную
металлическую разборную оправку. И параллельно разработали технологию и подобрали
материал для создания гипсовой оправки. Вначале мы полагали вымывать гипс. Но в
связи с нехваткой времени на исследования, первые головные части мы освобождали
от гипсовой оправки, механически разрушая ее.
На разработанный нами тогда намоточный станок мы
получили авторское свидетельство на изобретение уже в конце 60-х годов одновременно
с авторским свидетельством на носик крыла ракетоплана. Тогда нами был проведен
огромный комплекс экспериментально-исследовательских работ по многим
направлениям. Вначале не могли получить требуемой прочности материала в
корпусе, затем он начал трескаться и расслаиваться при полимеризации после
намотки на него теплозащитного материала СТКТ-11 и еще масса других всяких, как
говорят, «неутыков». Были изготовлены сотни образцов и десятки намотанных
модельных отсеков для решения возникавших сложностей. Все это мы преодолели,
нашли нужные решения, изготовили несколько корпусов для статических, тепловых и
летных испытаний. Все виды испытаний корпус успешно прошел и показал требуемые
характеристики. Летные испытания корпус прошел на разработанной нами и изготовленной
в нашем производстве ракете «81». Это был двойной успех нашей фирмы, только
вступившей на путь создания ракетной техники. Созданный нами корпус головной
части был первым корпусом в стране, изготовленный из стеклопластиков, в котором
располагался ядерный заряд. Затем эти материалы и технология, наряду с
пропиткой под давлением, стали применяться и в других организациях для подобных
изделий. А мне пришлось покинуть отдел и второй раз вернуться на
конструкторскую работу.
После того как наш корпус «слетал». Стопачинский
предложил мне подыскать себе посильнее заместителя, поскольку имевшийся не обладал
необходимым опытом и знаниями, а занимался хозяйственно-организационными
вопросами. К тому времени у меня были уже определенные связи в нашем «неметаллическом
мире» и ко мне согласился перейти начальник отдела неметаллов из ОКБ Ильюшина.
Когда он уже был оформлен и получил пропуск, я привел его представить Стопачинскому.
К моему великому удивлению, Стопачинский,
обращаясь к моему коллеге стал развивать идею перестройки структуры отдела и
предложил ему возглавить этот перестроенный отдел. И это предложение он сделал
совершенно не зная человека и не высказав мне ранее ни одного замечания или
упрека ни по службе, ни как к человеку. Мне он предложил быть заместителем
начальника отдела. Это было неслыханное вероломство. Я, конечно, встал и
заявил, что больше с ним работать не буду, а сейчас пойду и обо всем доложу
Бугайскому. Отказался и мой коллега вообще работать в нашей организации и мы
оба ушли. Он за территорию, а я докладывать Бугайскому.
Бугайский,
выслушав меня, только отметил — он по-прежнему не унимается — и предложил
перейти помощником Нодельмана по каркасным работам. Нодельман согласился и
сказал, чтобы я готовил приказ о переводе меня к нему, а на мое место назначить
моего заместителя. Но потом он отказался от этого предложения и я перешел
ведущим конструктором в отдел головных частей.
Когда
Бугайский подписывал приказ, то сказал, чтобы я готовился к новой работе. Что
вскоре мы начнем проектировать новую боевую ракету и применительно к ней будет
остро стоять задача длительного обеспечения ее эксплуатации в заправленном
состоянии в шахтной пусковой установке. Начни с проработки способов длительной
герметизации топливного тракта ракеты. Скоро по этой тематике будет организован
новый отдел и ты его возглавишь.
Перейдя в
отдел головных частей, я обобщил все свои работы, выполненные под моим
руководством в отделе неметаллов по разработке методики изготовления головной
части из стеклопластиков методом комбинированной намотки, и изложил все это в
виде обстоятельного отчета с фотографиями и графиками. Эти материалы потом
составили основу моей кандидатской диссертации, которую я смог защитить только
спустя шесть лет после того, как закончил новую работу по обеспечению
долговечности баллистических ракет или, как тогда говорили, длительного
хранения ракет.
А тогда мне очень жалко было оставлять полюбившуюся
работу и коллектив. Я только развернул работы по разработке метода намотки не
стеклонитью, как мы мотали, а стекловолокном, вытягиваемым из расплава стекла
через фильеру из специальной «лодочки». Эти лодочки делаются из чистой платины.
Для изготовления лодочек я получил 16 килограммов платины и ее уже завезли на
предприятие. Мне дали довольно легко столько платины потому, что в Кремле в
Военно-промышленной комиссии (ВПК) довольно внимательно следили за нашими работами
по изготовлению корпуса головной части из стеклопластика. И когда я объяснил
там идею, для чего мне нужна платина, то они, оценив идею, тут же дали указание
Минфину и Госплану выделить платину. После моего ухода из отдела эти работы,
конечно, были свернуты и платина лежала несколько лет на складе
невостребованной, причиняя каждый раз массу хлопот при финансовых ревизиях,
пока от нее не избавились. А намотку изделия из расплава так до сих пор никто в
мире и не осуществил несмотря на то, что прочность моноволокна значительно выше
чем прочность стеклонити, где моноволокно претерпевает значительные изгибы, при
которых происходит существенное его повреждение на поверхности и это приводит к
большой потере исходной прочности стеклянного моноволокна. После моего ухода из
отдела неметаллов многие задуманные мной работы были прекращены, а не только
эта.
Когда я
уходил из отдела, его сотрудники по своей инициативе, что-то около 70-ти человек, написали коллективное
письмо в партком, отмечая необоснованность и вредность для предприятия моего
ухода из отдела и просили оставить меня на прежней работе. Секретарь парткома
был мой прежний коллега по первой конструкторской работе Синявский Г. Е. Он был
фронтовиком и в партию вступил на фронте. Но и он ничего не предпринял, чтобы
хотя бы осудить допущенное вероломство по отношению ко мне, не говоря уже о
том, чтобы предотвратить мой уход из отдела.
Стопачинский
был волевой натурой с большими притязаниями и у него шла борьба с Бугайским за
кресло руководителя филиалом на Филях. Челомей в эту тяжбу не ввязывался.
Вскоре на партсобрании предприятия одна дама вылила такой ушат грязи на
Стопачинского, что с ним случился сердечный приступ, он заболел и больше к нам
не вернулся. Так закончилась борьба двух титанов, в которой я, очевидно, послужил
мелкой разменной монетой.
Спустя
много лет, встретившись со Стопачинским на одной из юбилейных встреч я спросил
у него: «Прошло время, мы совсем стали белыми, скажите, зачем Вы тогда так
поступили со мной?» Он удивленно ответил, что он не помнит ничего такого и
широко заулыбался. Я прекратил разговор и молча отошел от него, поняв, что в
том поступке проявилась его человеческая сущность, а не аппаратный прием в его
борьбе с Бугайским. Вот такое гнусное качество, которого были не лишены многие
руководители всех рангов, и восстановили большинство интеллигенции против
Советской власти, отождествляя ее с деяниями таких руководителей, что и привело
к гибели нашего государства.
После успешного полета изготовленной ракеты и нашей
головной части, спустя некоторое время, многие получили за их разработку Государственные
премии. Двоим конструкторам из проектного отдела за создание корпуса головной
части присудили кандидатские степени без защиты диссертации, а меня «забыли».
Когда «вспомнили», то специально для меня добыли медаль ВДНХ. Возить документы
для ее пробивания заставляли меня самого. Так, что и работу сам делал и
«награду» сам себе пробивал. Вот какая у нас была оценка творческого труда. Не
без оснований у нас была поговорка: «награждение непричастных и наказание невиновных».
Это была мера морали наших руководителей всех рангов.
После моего ухода из отдела неметаллов работы по
применению композитов постепенно свернулись и заглохли на предприятии. Вновь я
их развернул спустя двадцать лет, когда мне подчинили конструкторские каркасные
отделы и отдел неметаллов.
АМПУЛИЗИРОВАННАЯ РАКЕТА
ЯЛТИНСКИЕ «РАКЕТНЫЕ ПОСИДЕЛКИ»
После завершения работ по ракете «81», которая никуда не пошла, а
явилась просто экспериментальной работой, перед предприятием встала задача в
определении дальнейшей тематики и завоевания «места под солнцем». Несмотря на
то, что нашу фирму передали специально на ракетную тематику, конкретного
задания мы не имели, а много живой и важной работы по авиационной тематике было
выброшено. Так нами руководили.
В 1962 году, когда происходили эти события, в стране считался
признанным разработчиком стратегических ракет коллектив днепропетровцев в КБ
«Южном», возглавлявшемся Янгелем. Мы же только пытались встроиться в этот ряд и
Челомей искал работу, чтобы нас загрузить.
В то время у нас и в США шли интенсивные поиски по
определению пути создания автоматизированных ракетных комплексов шахтного
базирования. Нужно было решить — создавать ракеты на твердом топливе или на
жидком. На твердом топливе конструкция ракеты могла быть более простой,
следовательно более надежной и более простой в эксплуатации. Но готового
твердого топлива тогда у нас еще не было. А жидкое топливо на основе окислов
азота и углеводородов к тому времени уже было, но оно являлось весьма коррозионно
агрессивным и ракета не могла долго находиться с топливом в баках. Королевская
«семерка» была поставлена на боевое дежурство на наземном незащищенном старте в
незаправленном состоянии, поскольку у нее в качестве окислителя использовался
кислород. Находясь на открытом старте, эта ракета была полностью не защищена от
воздействия средств нападения потенциального противника. Поэтому Янгель разработал
ракету на жидком топливе шахтного базирования, которая также находилась в
незаправленном состоянии. Топливо находилось в специальных емкостях в рядом
стоящей шахте. Перед пуском ракеты топливо перекачивалось в баки ракеты,
находящейся в шахтной пусковой установке. Данные шахты представляли собой
грандиозные сооружения высотой в 7—8-этажный дом, зарытый в землю с системами
вентиляции, кондиционирования, отопления и лифтовым хозяйством. Конечно, это не
было оружием ответного удара, когда нет времени на подготовку к пуску. Нужны
были ракеты, способные выдержать ядерный удар противника, и затем через
считанные минуты нанести ответный удар. Эти ракеты должны были находиться в
заправленном состоянии и в постоянной боевой готовности к немедленному
применению.
К тому времени разработка нужного твердого ракетного
топлива у нас явно задерживалась, а в ГИПХе — Государственном институте прикладной
химии в Ленинграде — подходила к завершению разработка долгохранящегося жидкого
топлива на основе четырехокиси азота и несимметричного диметилгидразина,
которое было менее коррозионноактивное при определенных условиях. Поэтому было
принято решение развернуть боевые ракетные комплексы стратегического назначения
шахтного базирования на основе этого топлива. Тем более, американцы опережали
нас и уже поставили к тому времени на боевое дежурство 57 ракет «Титан»
шахтного базирования на аналогичном жидком топливе.
Вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР о проектировании
ракет среднего и тяжелого класса и поручалось это ОКБ Янгеля. Вот тут-то
Челомей и вступил в борьбу за этот заказ и не только с помощью аппаратных
интриг, но и предложив оригинальную конструкцию ракеты, о которой я скажу
позже. Она стала потом классической схемой ракет шахтного базирования.
В конце 1962 или начале 1963 года в Ялте, где отдыхал
Хрущев, состоялись первые «ракетные дебаты». Туда были вызваны все главные
конструкторы, которые доложили свои проработки и затем прошло их обсуждение. В
результате проект Челомея был принят. У Янгеля отобрали среднюю ракету и
передали ее разработку Челомею, а у него оставили тяжелую. Разработку этой
ракеты Челомей передал на Фили. Эта победа Челомея оказалась решающей для
страны. Иначе если бы эта ракета разрабатывалась
у Янгеля, то страна понесла бы значительные дополнительные затраты и оказалась
бы в итоге без эффективного ракетно-ядерного щита. Но об этом позже.
РАКЕТА УР-100
Проект средней ракеты, отвоеванной у Янгеля, получил
индекс УР-100. Ее оригинальность состояла в том, что она впервые располагалась
в подземной шахте в специальном пусковом стакане или как мы называли —
контейнере. Это конструктивное решение дало ракете значительные преимущества.
На них следует остановиться отдельно.
Загерметизировав контейнер и сделав прорывные
герметичные по торцам мембраны для выхода ракеты при старте, можно было заполнить
контейнер сухой нейтральной средой и обеспечить ракете наиболее благоприятные
условия для ее длительной сохранности, защитив ее от пагубного воздействия
гнилой среды шахты. Саму шахту, при этом, можно предельно упростить, изъяв из
ее конструкции все виды отопления, вентиляции и осушки. Это мы определили как
внешнюю ампулизацию ракеты. Кроме того, контейнер позволял на заводе полностью
закончить на ракете в заводской готовности сборку всех заправочных коммуникаций
и до предела упростить связь ракеты с шахтой, а также значительно упростить ее
установку в шахту. Это основные преимущества. Но было и ряд других более узко
специфических преимуществ в различных технических решениях.
К тому времени, когда мы начали разрабатывать УР-100,
из литературы стало известно, что американские ракеты «Титан», стоящие на дежурстве,
практически все потеряли герметичность топливного тракта. Полость шахты и вся ракета
с ее тончайшим оборудованием оказались загазованными высокотоксичными и
коррозионноактивными парами компонентов топлива. Американские исследования,
описанные в литературе, показали, затем это проверили и мы, что при наличии
мельчайших микропор в сварных швах баков ракеты топливо проникает через них.
При наличии снаружи ракеты высокой влажности, это проникшее топливо соединяется
с влагой воздуха в шахте, образовывает сильноконцентрированный раствор азотной
кислоты, который разъедает устье микропоры с наружной стороны бака и истечение
резко начинает возрастать. Американцы срочно доработали все шахты, установив в
них сложнейшие системы их осушки, затратив на это 250 млн долларов. После этого
они прекратили строительство боевых ракет на жидких топливах и перешли на
твердые топлива. Первая их массовая ракета «Минитмен» стратегического
назначения шахтного базирования, по классу аналогичная нашей УР-100, была уже
на твердом топливе. Наша же ракета проектировалась на жидком топливе. Этот
печальный опыт американцев вызвал большую тревогу у наших высших военно-политических
кругов.
Еще раньше, сразу же после моего ухода из отдела
неметаллов, я провел по просьбе Бугайского предварительные исследования по выбору
метода обеспечения максимальной степени герметичности топливных трактов и
убедился, что применение каких-либо разъемных соединений с любым видом
имеющихся уплотнений и средств дополнительной герметизации не могут обеспечить
сохранение герметичности на длительное время. Эту задачу может решить
применение в конструкции только сварных неразъемных соединений. Это мероприятие
определило сущность внутренней ампулизации ракеты и выдержано было в
конструкции неукоснительно.
Применение на ракете внешней и внутренней ампулизации
позволяло надеяться, что удастся успешно решить сложную задачу обеспечения
ракете длительного срока службы в заправленном состоянии. Но чтобы конструктивно и технологически качественно
выполнить ампулизацию ракеты, нужно было провести грандиозный объем экспериментально-исследовательских
работ для того, чтобы получить необходимые исходные данные для проектирования
узлов и элементов ракет, обеспечивающих ампулизацию всей ракеты, а также
качественное ее изготовление.
Придавая большое значение решению этой задачи, вышло
постановление ЦК КПСС и СМ СССР по этому поводу, которое предписывало
конструкторским организациям Челомея и Янгеля провести широкий комплекс
научно-исследовательских, экспериментальных и конструкторских работ,
обеспечивающих ракетам надежное нахождение на боевом дежурстве в заправленном
состоянии в течении 7—10 лет. Для обеспечения проведения этих исследований
предписывалось этим организациям составить комплексные межведомственные планы и
утвердить их в Военно-промышленной комиссии Президиума Совета Министров СССР.
Этим же постановлением предписывалось построить в ОКБ Челомея специальную
экспериментальную базу для проведения исследований по данной тематике.
Повреждение ракеты происходит под воздействием различного рода
физико-химического взаимодействия элементов ракеты с окружающей средой и
компонентами ракетных топлив. Происходящие процессы на борту ракеты при ее
длительном нахождении в шахте нами были тщательно проанализированы и они
определили весь этот объем исследований, который нужно было проводить. Для
специалистов я кратко опишу эти процессы, которые предстояло изучать.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА БОРТУ РАКЕТЫ
ДЛИТЕЛЬНОЕ НАХОЖДЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА В
БАКАХ
Наличие этого фактора
для жидкостных ракет является основным и определяющим и проявляется во многих
аспектах.
Первый из них заключается в коррозионном воздействии
на материалы и элементы топливного тракта. Особенно активными в этом смысле
являются окислители. Коррозионная активность может проявляться в различных
видах структурной коррозии, которая возрастает при попадании влаги в
компоненты. В непосредственной связи с коррозионным разрушением материалов
топливных трактов находится проблема осадкообразования в компонентах.
Образовавшиеся продукты коррозии на стенках могут отслаиваться и попадать в
компоненты и со временем оседать на нижних участках трактов и непосредственно
на топливозаборных устройствах. При этом существенное значение имеет растворимость
продуктов коррозии в компонентах. Величина осадкообразования будет меньше, если
продукты коррозии будут растворяться. На величину осадкообразования также
влияет количество и размер мехпримесей, вносимых в баки ракеты с топливом при заправке.
Наличие осадков, находящихся под гидростатическим давлением топлива в нижних
точках топливного тракта, может привести к их коагуляции и укрупнению. Рост
осевших частиц в еще большей мере увеличит опасность засорения топливной и
регулирующей аппаратуры двигательных установок, ибо порции компонентов с
наибольшим количеством мехпримесей первыми попадут в двигатели и могут засорить
аппаратуру.
На ракету в шахте будут воздействовать сезонные
колебания температуры, если шахта не отапливается. Это приведет к изменению объемов
компонентов в баках, что в свою очередь будет вызывать изменение давления в
газовых подушках баков. В этой связи
возникает и второе явление, связанное с тем, что компоненты топлива должны
храниться под подушкой нейтрального газа. При длительном контакте газа с зеркалом
компонента, азот будет медленно растворяться в компонентах, что в свою очередь
приведет к изменению давления в подушках. На это изменение давления будет
влиять выделение газов из компонентов при изменении температуры внешней среды.
Особое значение имеет вопрос обеспечения отсутствия
проницаемости компонентов в сухие отсеки ракеты и в полость шахты. В принципе,
проникновение компонентов может происходить через сплошной металл, микродефекты
в сварных швах и через негерметичности разъемных соединений. Величина и время
проникновения компонентов в каждом из этих случаев будет различным, также как и
характер их воздействия на ракету. Существенное влияние на процесс
проницаемости компонентов оказывает влажность окружающего ракету воздуха. Предотвращение
проницаемости компонентов обеспечивается надлежащей герметичностью топливных
трактов. Решение этой задачи лежит в плоскости металлургии, материаловедения,
технологии изготовления изделия и многих других факторов. Решающим в том
вопросе является конструктивная схема топливных трактов и принятая форма
герметизации соединений.
Цельносварное выполнение топливных трактов в ракетной
технике не имело прецедентов и оно накладывает ряд дополнительных требований на
проектирование, изготовление и эксплуатацию ракет. Основные из них следующие:
-
конструкция
агрегатов и отсеков должна позволять и обеспечивать сварку заключительных
сварных швов внутри ракеты при ее общей сборке с помощью специальных автоматов
и не требовать ручной сварки,
-
необходима
разработка и использование в конструкции биметаллических переходников для
сварки трубопроводов из алюминиевых и стальных элементов,
-
необходима разработка
и внедрение автоматов для сварки кольцевых, прямолинейных, криволинейных и
заключительных сварных швов,
-
необходима
разработка и внедрение высокочувствительных объективных методов контроля герметичности
в производстве,
-
необходимо
провести исследование и изучить закономерности истечения компонентов через микронеплотности
в сварных швах,
-
необходимо
разработать метод расчета по определению необходимой степени герметичности топливных
трактов,
-
в конструкции
должна быть предусмотрена технологическая компенсация, исключающая ручную подгонку
трубопроводов при их сварке в ракете,
-
конструкция
агрегатов и отсеков должна позволять отрезать и вновь приваривать агрегаты,
которые могут выходить из строя и требовать замены в процессе изготовления,
-
необходимо
разработать методы ремонта в условиях воинских частей и на заводе топливных
трактов, бывших под компонентами.
ТЕМПЕРАТУРА В НЕВЕНТИЛИРУЕМОЙ И НЕОТАПЛИВАЕМОЙ
ШАХТЕ
Температурно-влажностный режим в таких шахтах
складывается под воздействием годичных изменений температуры атмосферы и грунта
в месте расположения шахты, а также состава грунта и его почвенно-геологической
структуры. В процессе длительного опыта гидрометеорологических наблюдений
накоплено и систематизировано большое число данных по температуре воздуха, поверхности
грунта и о характере их изменения. Температура грунта на необходимых глубинах
систематизировано не изучалась и не обобщалась в должной мере. Поэтому в начале
этой работы возникла необходимость в подобной систематизации. В настоящее время
эти измерения ведутся довольно широко для большого числа районов страны и
систематизировано обобщаются.
На основании проведенного обобщения распределения
температур в отдельных районах необходимо разработать методику расчета изменения
температур по глубине грунта с тем, чтобы можно было расчетным путем определить
максимальный перепад температур в любое время года и в любом климатическом
районе страны. На основании этих данных устанавливается возможный максимальный
перепад температур в любое время года и в
любом климатическом районе страны. На основании этих данных устанавливается
возможный максимальный перепад температур топлива в ракете.
ВЛАЖНОСТЬ В НЕВЕНТИЛИРУЕМОЙ ШАХТНОЙ
ПУСКОВОЙ
УСТАНОВКЕ
Шахты, как и все подземные сооружения, имеют большую
влажность и требуют специальных мероприятий по защите ракеты от ее воздействия.
При этом важно не только относительное содержание влаги в воздухе, но и
абсолютное ее содержание. При колебании температуры воздуха последнее
характеризует температурные пределы выпадения росы на ракете.
Увлажнение ракеты пленочной и капельной влагой в
значительной мере ускоряет протекание коррозионных процессов. При этом существенное
влияние оказывает периодичность и частота увлажнения. Расчетным путем
установить закономерности этих процессов не представляется возможным, поэтому
зоны и периодичность увлажнения поверхности шахты можно установить только
экспериментальным путем.
При расположении ракеты в пусковом контейнере пагубное
воздействие атмосферы шахты переносится с ракеты на наружную поверхность
контейнера. Защита его от атмосферной коррозии может быть осуществлена
имеющимися средствами и методами без какой-либо экономии веса для этих целей,
поскольку контейнер не участвует в полете ракеты и остается в шахте.
ГАЗОВЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРЫ
Из теории газовой коррозии известно, какое большое
влияние имеют газовые примеси в атмосфере на коррозионную активность атмосферы.
Их наличие, как правило, приводит к значительному возрастанию коррозионной
активности воздушной среды. Особенное значение этот фактор приобретает для
закрытых невентилируемых объемов. В них скорость коррозии резко возрастает, а
продукты коррозии образуются более пористыми и менее прочно соединяются с
поверхностью, уменьшая свое защитное действие.
Помимо ускорения коррозионных процессов наличие
газовых примесей может отрицательно сказаться на работоспособности ряда неметаллических
и металлических материалов. Особенно это касается материалов
электротехнического назначения.
Источниками газовыделений, загрязняющими атмосферу
контейнера, ракеты и шахты, в первую очередь является сама ракета. Как уже отмечалось,
наиболее опасным является появление паров компонентов, проникающих из
микронеплотностей баков и всего топливного тракта. Другим источником
газовыделения являются неметаллические материалы и лакокрасочные покрытия
ракеты и внутренней поверхности контейнера.
Источниками появления газовых примесей в атмосфере
шахты, ранее отмеченных, могут являться состав подземных вод и наличие загрязнений
в атмосфере района, где располагается шахта.
Наличие контейнера на ракете позволяет надежно
изолировать ракету от внешней среды и создать в нем необходимую микросреду.
Вместе с тем, введение контейнера выдвинуло ряд специфических требований. О
газовыделении уже говорилось. Помимо этого возникает необходимость исключения в
полости контейнера материалов, усиленно поглощающих или выделяющих влагу. Их
наличие может резко влиять на создание необходимого влажностного режима в
контейнере.
Создание необходимой микросреды в контейнере требует
исключения в конструкции ракеты невентилируемых изолированных объемов. В
противном случае в этих объемах необходимо будет создавать свою микросреду.
ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Во всех ранее отмечавшихся случаях воздействие на
ракету внутренних и внешних факторов проявляется в виде различных
физико-химических воздействий на ракету, приводящих к определенному виду
повреждениям того или иного элемента ракеты. Все эти явления, в той или иной
мере, зависят от продолжительности эксплуатации, т. е. от времени нахождения
ракеты под воздействием той или иной среды.
Временной фактор проявляется и влияет на
работоспособность не только с этой точки зрения. Как известно, с течением
времени, материалы могут разрушаться или терять свою работоспособность не только
за счет воздействия внешней среды, но также и за счет собственных изменений
своих физико-химических свойств, проявление которых наблюдается во времени. Эти
изменения происходят в металлах и неметаллах и в значительной мере зависят от
формы и конструкции узла, где они находятся, а также от вида и характера их
внутреннего напряженного состояния. Для неметаллических материалов существенное
дополнительное влияние на эти процессы оказывает состав и характер внешней среды.
В металлических материалах отмечаемое влияние времени
сказывается в виде ползучести и релаксации напряжений. Учитывать ползучесть
необходимо особенно в таких элементах ракеты как топливные баки, длительное
время находящиеся под внутренним давлением и воздействием компонентов, а также
узлы опор и крепления ракеты в пусковой установке. Релаксация напряжений в
наибольшей мере проявляется в уплотнительных и прокладочных элементах, наряду с
ползучестью в стягивающих элементах.
Физико-механические изменения, происходящие с течением
времени в неметаллических материалах, весьма многообразны для различных групп
этих материалов. Общим термином эти явления определяются как старение
неметаллических материалов и изучаются применительно к каждому типу материалов.
Особое место, по своему значению, имеет так называемое
явление пенитрации, заключающееся в том, что металлический предмет, находящийся
в контакте с неметаллическими материалами, под длительно действующей нагрузкой,
постепенно внедряется в неметаллический материал, оставляя в нем устойчивый остаточный
след. Это явление весьма важно для клапанов, седла которых под действием пружин
длительное время опираются на неметаллические уплотнения и при работе могут
терять герметичность в случае многократного срабатывания клапана.
Здесь изложены основные физико-химические процессы,
происходящие на ракете, которые предстояло изучить. Конкретные тематические
задачи, вытекающие из приведенных воздействующих факторов на ракету, которые
предстояло изучить, будут приведены ниже.
ОТДЕЛ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
Задача, сформулированная в упоминавшемся постановлении
ЦК КПСС и СМ СССР, являлась, по своей технической сути, задачей обеспечения
долговечности с требуемым уровнем надежности. Но в те годы эта задача
формулировалась как обеспечение длительного хранения ракеты в заправленном
состоянии при ее нахождении в постоянной боевой готовности в шахтной пусковой
установке.
После выхода постановления Челомей дал указание
образовать специальный отдел длительного хранения. Бугайский поручил мне
создать и возглавить этот отдел буквально через 2—3 месяца после моего ухода из
отдела неметаллов. Он сам при этом написал на листочке, оторвав его из
блокнота, задачи отдела. На отдел возлагалась разработка методических и
организационных материалов, планов и графиков проведения работ на предприятии
по длительному хранению и их координация, а также проведение собственных исследований,
анализ и обобщение проведенных работ в организации с выпуском итоговых отчетов
и заключений по длительному хранению ракет. Следует отметить, что такого отдела
с подобными задачами не было ни в одной организации ни тогда, ни сейчас, ни по
какой-либо другой сложной комплексной тематике. Бугайский далеко и правильно
смотрел в этой проблеме, сформулировав задачи этого отдела. Это, в своем роде,
получился уникальный отдел, связывающий конструкторов с наукой в области
изучения взаимодействия ракеты с внутренней и внешней средой, определяемого, в
основном, протеканием различных физико-химических процессов в материалах,
средах и по границам их раздела.
Отдел подчинили непосредственно заместителю генерального
конструктора Нодельману Якову Борисовичу. У нас уже до этого сложились
доверительные отношения и он мне откровенно сказал, что он не представляет чем
будет заниматься этот отдел и попросил изложить на бумаге его задачи и функции.
Я не только разработал эти задачи в виде Положения об отделе, но и
межведомственное положение о проведении комплекса исследований длительного
хранения ракеты УР-100. Я понимал, что это задача комплексная и решить ее можно
только коллективными усилиями специалистов многих институтов и конструкторских
бюро, принимавших участие в создании этой ракеты. В этом межведомственном
положении я очертил круг задач, определил основные методологические подходы в
их решении, а также указал организации — их исполнителей. После согласования
положения в основных промышленных и военных НИИ и КБ, оно стало единым
методологическим и организующим началом для предприятий и НИИ министерств:
авиации, общего машиностроения, химической промышленности и обороны в проведении
работ по длительному хранению. Введение единого положения с самого начала этих
работ позволило провести их по единому методическому подходу, в требуемых
направлениях и в нужных объемах.
Для проведения этих работ мы разработали
межведомственный «Комплексный план работ…», который предписывался упоминавшимся
постановлением. Этот план охватил более 200 научно-исследовательских тем,
выполнявшихся нами, а также распределенных между шестнадцатью НИИ и КБ. Этот
план был утвержден Военно-промышленной комиссией и приобрел статус
Государственного плана и стоял на жестком контроле высшими хозяйственными
органами. Мой вновь созданный отдел всего из 16-ти человек не только создал
этот план, но и осуществлял курирование по нему всех работ, которые велись у
нас на предприятии, а также в смежных НИИ и КБ.
Работалось мне в те годы тяжело физически, но легко и
просто психологически. Этому во многом способствовала позиция, занятая Нодельманом.
На первых порах он контролировал мою работу как бы упреждающим методом. По
каждому из возникающих вопросов он вначале спрашивал: «Ну, что ты будешь
делать?» Выслушав, он иногда вносил замечания, а потом уже и спрашивать
перестал, предоставив мне полную свободу действия, подписывая и утверждая мои
документы только изредка их читая, в зависимости от их важности, выслушав
только их содержание. Его не коробило и он не чинил препятствий, когда меня
вызывали по делам в министерство, ЦК КПСС, ВПК и другие высокие инстанции. Его
знания и опыт, и авторитет были настолько высоки, а сам он был настолько
уважаем, что он никак не боялся моего роста во внешнем мире. Чего нельзя было
сказать о моем внутреннем положении, когда его возраст стал приближаться к 70
годам и он не выражал уже согласие на мое выдвижение на должность начальника
отделения, несмотря на то, что я был утвержден в списке резерва в министерстве
на должность заместителя Генерального конструктора. Я чисто по-человечески
понимал его, не обижался и никогда не говорил ему об этом. Когда его убрали «насильственным»
путем с этой должности в возрасте около 80-ти лет, он ушел вполне
работоспособным человеком, с ясным мышлением и с еще достаточной энергией,
присущей прежнему Нодельману, которого знало и уважало не одно поколение
конструкторов.
В моем новом отделе все сотрудники с большим уважением
относились к Нодельману и он во многом способствовал тому, что в отделе царила
хорошая творческая обстановка. Мы много успели сделать, потому, что дружно
работали.
Моим заместителем был Полторанин Григорий Яковлевич.
Он занимался вопросами коррозии металлов в ракетных топливах и длительной
прочностью баков. По этой тематике он защитил кандидатскую диссертацию. Я еще
тогда не защищался, поскольку не было времени сдать кандидатский минимум и
написать диссертацию. Когда он увидел через несколько лет, что я засиделся на
своем месте и у него не было возможности роста, он ушел в НИИ ГВФ и занимался
там сроками службы антоновских самолетов и это не испортило наших отношений.
Загоскин Генрих Аркадьевич занимался вопросами осушки
контейнеров, поглощения газовых примесей и атмосферной коррозией. Защитил
кандидатскую диссертацию по этой теме.
Соловьева Раиса Ивановна занималась физико-химическим
взаимодействием компонентов со стенками баков и способами удаления их остатков
с внутренних поверхностей баков. Защитила кандидатскую диссертацию.
Воинов Анатолий Сергеевич — мастер на все руки и мог
заменить любого, но специализировался на испытаниях агрегатов в среде компонентов
топлива. Будучи весьма непритязательным и покладистым, он был увлечен работой и
не стремился защищаться.
Кишнев Леонид Александрович — весельчак, балагур, душа
и неформальный лидер отдела. Занимался средствами и методами контроля загазованности
парами компонентов и много сделал для формирования и создания системы
автоматического дистанционного контроля загазованности парами компонентов ракет
на боевом дежурстве. Как я не понуждал его защитить диссертацию, так и не смог.
Его бесшабашности хватило только на сдачу кандидатского минимума.
Красникова Зоя Александровна занималась физико-химией
и хранимостью ракетных топлив. Была сестрой-хозяйкой отдела.
Фетисов Иван Степанович и Кремер Павел Яковлевич
занимались разработкой норм, методами и средствами контроля герметичности топливных
трактов в производстве, а также изучением закономерностей истечения компонентов
через неплотности сварных швов. С ними работал молодой тогда Агаханов Борис Григорьевич.
Мелешко Инна Николаевна и Ярош
Ирина Кондратьевна занимались коррозионными испытаниями материалов и агрегатов
в загазованной парами компонентов среде.
Романов Евгений Васильевич, Друкарова Женя и Шехоян
Люда занимались конструированием образцов и приспособлений для проведения
различных испытаний.
Маматова Анна Яковлевна курировала в производстве
изготовление матчасти для испытаний.
Крюченко Евгений Васильевич и Федунина Анна Андреевна
разрабатывали и вели документацию по условиям и срокам эксплуатации материалов,
агрегатов и ракеты в целом.
Сейчас, спустя тридцать лет, когда пишутся эти строки
в середине 90-х годов, тематика и результаты проведенных работ тогда раскрыты
ныне и с них снят гриф секретности. Теперь о них уже можно рассказать,
поскольку те наши ракеты УР-100 простояли в боевом дежурстве в различных
модификациях не 7—10 лет, а 15—18 лет и были заменены на более эффективные. Но
тогда, с конца 60-х годов, их стояло на боевом дежурстве порядка 1000 штук из
1200 составлявших ядерный щит нашей страны. Они располагались в подземных
шахтных пусковых установках.
Уже в 1994 году я опубликовал статью с постановкой
вопроса о необходимости конверсии не только технологий, но и научных знаний, накопленных
в оборонном комплексе. В качестве примера в статье изложил основное
тематическое содержание работ, проведенных моим отделом в 60-х годах по
обеспечению долговечности ракеты на жидком топливе шахтного базирования. Ниже
приводится эта статья.
КОНВЕРСИЯ ОБОРОННОЙ НАУКИ: ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
НА АМПУЛИЗИРОВАННУЮ РАКЕТУ
(Журнал «Конверсия» № 12 1994 г.)
Полувековая
«холодная война» поглотила значительные материальные и людские ресурсы.
Создание большого количества различных видов оружия массового уничтожения
пришлось на период развертывания очередной мировой научно-технической
революции, сердцевину которой составило возникновение и развитие
ядерно-кибернетической техники, базирующейся на фундаментальных областях знаний.
Эта техника стала наукоемкой по своему внутреннему содержанию. Поэтому наряду с
конверсией промышленного производства оборонных отраслей необходимо ставить
вопрос о конверсии научных знаний, накопленных в этих отраслях. Использование
оборонной науки будет иметь не меньшее значение, чем использование передовых
технологий и производственных мощностей оборонных отраслей, а затрат на это
потребуется несоизмеримо меньше.
В настоящее время приобрели статус открытых работы по
обеспечению долговечности стратегических ампулизированных ракет шахтного
базирования, работающих на жидком топливе, проведенные в конструкторском
коллективе, возглавлявшемся академиком В. Н. Челомеем.
Эти ракеты в течение десятилетий находились на боевом
дежурстве в неотапливаемых и невентилируемых шахтных пусковых установках,
заправленные высокотоксичными и коррозионноопасными компонентами ракетных
топлив — четырехокисью азота (амилом) и несимметричных диметилгидразином
(гептилом). Высокие эксплуатационные качества таких ракет были обеспечены конструкторскими
и технологическими решениями. Большую роль сыграли практические рекомендации,
основанные на результатах научно-исследовательских работ, проведенных в КБ
«Салют» под руководством автора, а также в ряде НИИ и КБ.
Системность и комплексность исследований в области
долговечности ракет позволили получить широкий круг знаний, которые составили
новое научное направление. Использование применявшейся при этом методологии и
полученных знаний в других областях техники будет наиболее плодотворно там, где
сочетается одновременное многообразное воздействие внешних и внутренних
факторов, особенно при создании, изготовлении и эксплуатации образцов техники,
содержащих высокотоксичные, коррозионноопасные, пожаро и взрывоопасные, а также
радиоактивные вещества. Именно эти образцы техники и виды технологических
процессов и производств представляют наибольшую экологическую опасность для
окружающей среды и обслуживающего персонала.
Обеспечению их экологической безопасности при необходимой долговечности должно
уделяться наиболее пристальное внимание. Решение этой задачи в наибольшей мере
будет способствовать использование опыта КБ «Салют».
Анализ показывает, что на
технические объекты в процессе их транспортировки, хранения и эксплуатации в
различных средах и природных климатических условиях оказывает физико-химическое
воздействие большое количество разнообразных факторов.
Воздействие внешней и внутренней среды на технический
объект можно представить в виде структурной физической модели. Построение такой
модели осуществляется в следующем порядке:
определяется номенклатура газовых, твердых и жидких
внутренних сред объекта,
определяется перечень внешних и внутренних факторов,
действующих на объект,
объект структурно расчленяется на основные элементы,
являющиеся разграничителями внутренних и внешних сред, при этом определяется
также перечень элементов, находящихся в каждой из сред,
устанавливаются предметы исследования, которыми могут
быть элементы, разграничивающие среды, элементы, находящиеся в самих средах, а
также сами среды,
применительно к выделенным предметам исследований
устанавливается объем и номенклатура исследований, необходимых для обеспечения
долговечности и сохранности объекта.
На основании изложенного подхода построена структурная
физическая модель ракеты, помещенной в пусковой контейнер и находящейся в
шахтной пусковой установке. Анализируя данную модель, можно выделить следующие
объекты и направления исследований, которые необходимо проводить применительно
к ракете, работающей на жидком топливе, находящейся в шахтной пусковой
установке:
-
общие
закономерности газонасыщения компонентов,
-
методы
газонасыщения и дегазации компонентов, перед заправкой,
-
изменение
давления в газовых подушках баков при эксплуатации,
-
образование и
осаждение механических примесей в компонентах в процессе эксплуатации и их влияние
на надежность работы двигателей в полете,
-
образование
технологических примесей в окислителе и изменение его коррозионной активности,
-
коррозионная
активность несливаемых остатков компонентов топлива и возможность хранения и
транспортирования ракеты с несливаемыми остатками топлива,
-
изменение
физико-химических и энергетических свойств компонентов в процессе длительного
нахождения в баках ракеты.
II. Внутренняя поверхность топливных баков:
-
коррозионная
стойкость конструкционных материалов и агрегатов в жидкой и паровой фазе окислителя,
-
сорбция и
капиллярная конденсация компонентов топлива стенками баков,
-
механизм
взаимодействия компонентов с внутренней поверхностью баков для разработки методов
их удаления при полной нейтрализации баков.
III. Материал стенки баков и агрегатов топливной системы:
-
диффузионная
проницаемость компонентов топлива через материал по границам зерен,
-
истечение
компонентов через микронеплотности в сварном шве и разработка методов расчета
норм герметичности топливного тракта,
-
проницаемость
компонентов топлива в различных конструкционных элементах,
-
ремонтопригодность
и разработка методов восстановительного ремонта топливного тракта после слива
компонентов,
-
ползучесть и длительная
прочность баков,
-
работоспособность
агрегатов топливного тракта после длительной выдержки.
IV. Наружная поверхность ракеты:
-
сорбция
компонентов топлива основными конструкционными материалами,
-
состояние
материалов и агрегатов в загазованной среде парами окислителя,
-
газовыделение
материалов и покрытий,
-
влагопоглощение
материалами,
-
стойкость
неметаллических материалов в сухой среде,
-
климатические
испытания материалов и агрегатов при повышенной влажности и температуре.
V. Газовая среда полости контейнера:
-
фактический
состав газовой среды,
-
требования к
системам контроля загазованности и влажности в полости контейнера,
-
коррозионная
активность и воздействие газового фона на работоспособность датчиков загазованности
и влажности,
-
разработка
методов и средств поглощения газового фона,
-
температурно-влажностный
режим в контейнере,
-
окисление паров
компонентов топлива кислородом воздуха и взаимодействие их с влагой воздуха.
VI. Стенка контейнера и гермодиафрагмы:
-
проникновение
влаги через уплотнения технологических и эксплуатационных люков и гермодиафрагм,
-
коррозионная
стойкость материалов наружной поверхности контейнера,
-
биостойкость
наружной поверхности контейнера и его гермодиафрагм и их стойкость к
воздействию случайных проливов компонентов при заправке ракеты в шахте,
-
условия
конденсации влаги на наружной поверхности контейнера.
VII. Воздушная среда шахты:
-
температурно-влажностный
режим в полости шахты,
-
газовый фон в
шахте и состав коррозионноактивных примесей.
Результаты
исследований, как упоминалось выше, были реализованы при разработке одной из
первых ампулизированных стратегических ракет на жидких топливах, созданных под
руководством академика В. Н. Челомея, а ныне могут найти гражданское
применение.
ЧТО ДЕЛАЛИ ПО ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ
В результате проведенных исследований по приведенной
тематике, нами был разработан комплекс мероприятий по конструированию, изготовлению
и эксплуатации ракеты с тем, чтобы гарантированно обеспечить ракете необходимый
срок службы. Мы потом выпустили методический ГОСТ объемом 4,5 печатных листа,
где обобщили все работы нашего отдела и смежных НИИ.
Прошло уже более тридцати лет после того бурного
времени. Многих участников тех событий уже нет, а оставшиеся некоторые их свидетели
ныне начали утверждать, что ничего серьезного ведь нами так и не было сделано
для того, чтобы обеспечить ракетам необходимую долговечность. Ракеты сами по
себе простояли и без нас. И такого мнения стал придерживаться, очевидно не без
определенного влияния на него, даже наш бывший старший военпред Аржеников Олег Иванович.
Он был тогда приставлен к нашему отделу. Когда мы развернули свою деятельность,
то его высшее руководство, придавая большое значение нашим работам, перевело к
нам от Королева, где он курировал двигательное производство, и поручило
курировать у нас работы по длительному хранению. Будучи широко эрудированным
специалистом, он не только контролировал нашу деятельность как военпред, но
советами и критикой очень во многом нам помогал, принимая таким образом непосредственное
участие в наших исследованиях. После увольнения в запас, он продолжал работать
у нас в КБ в качестве моего заместителя после ухода Полторанина.
Мнение о том, что ничего серьезного нами не было
сделано могло возникнуть у некоторых непосвященных в силу того, что действительно
в ракетах ничего особенного потом не делали для того, чтобы они надежно стояли
на дежурстве, потому, что все, что нужно было мы сделали в процессе их
разработки и изготовления. Своими испытаниями по ускоренным методикам мы тогда
уже подтвердили, что все, что заложено в конструкцию и изготовление ракеты
позволит ей эксплуатироваться в течение заданных сроков с требуемой
надежностью. И это блестяще подтвердилось затем в течение многолетней массовой
эксплуатации ракет.
Для этого мы провели много собственных исследований и
получили немало сведений, которые отсутствовали и по которым мы разработали ряд
весьма существенных рекомендаций особенно по герметичности топливных трактов и
осушке контейнеров ракет. Без реализации этих рекомендаций длительная эксплуатация
ракет вообще была бы невозможной. Для осуществления этих исследований нами было
разработано большое число разнообразных методик и соответствующих устройств и
приспособлений для их осуществления. На эти устройства мы получили 19 авторских
свидетельств на устройства и способы. Наиболее важным нашим изобретением было
устройство для имитации натурных течей в сварных швах для исследования закономерностей
истечений через них компонентов ракетных топлив. Другими исследователями в ряде
НИИ использовались имитаторы течей, в которых микроканалы получались
искусственным путем. В нашем же устройстве микроканалы образовывались
естественным путем в процессе его сварки. Это позволило нам получить абсолютно
достоверные результаты и наши течи затем использовались и в других НИИ.
В силу того, что сейчас начинает создаваться
обстановка, принижающая то, что мы сделали тогда, вынужден несколько более
подробно остановиться на этом. Поэтому приведу, не для наград ради, а для восстановления
исторической истины и передачи опыта, некоторые данные по основным результатам
и рекомендациям, разработанных нами на основе собственных исследований и
реализованных в ракете УР-100 и последующих ее модификациях. Пусть эти строки
будут напоминать выдержки из сухого научного отчета и не всем будут понятны, но
это нужно сделать, ибо сегодня стало необходимым доказывать, что ты прожил не
зря и ты кое-что сделал в этой жизни, в которой даже друзья отрекаются от
сделанного ими ранее. Сейчас стало модным охаивание не только общественной
жизни, которой мы жили прежде, но и технической. Теперь некоторые рьяные
хулители прошлого запустили утку, что мы и атомную бомбу разработали не сами, а
ее стащили нам разведчики. Вот теперь говорят, что и при создании ракет мы не
сделали ничего такого особенного. Но ведь американцы не смогли создать долгохраняющуюся
ракету на жидком топливе, а мы смогли!
Во-первых, нами был проведен большой комплекс
исследований и испытаний на большом числе образцов, агрегатов и сборок,
показавших правильность принятых основных конструктивно-технологических решений
в ракете, позволяющих ракете надежно находиться на эксплуатации. Это главный
итог работы нашего отдела ради чего он и создавался.
Схему таких испытаний я привожу здесь как пример того
объема исследований, который нам пришлось провести. Для специалистов, я думаю,
этот пример представит интерес и для других видов исследований в технике.
Во-вторых, на основании проведенных собственных
исследований получен ряд сведений, по которым было разработано большое число
рекомендаций, о которых говорилось ранее. Их можно сгруппировать следующим
образом по основным направлениям.
Изучены коррозионные процессы в компонентах топлив и
выданы соответствующие рекомендации по доработке некоторых узлов ракеты и
техпроцессов их изготовления. Изучено истечение компонентов топлив через
микродефекты в сварных швах, разработан метод расчета норм герметичности
топливного тракта и определены методы и средства их контроля. По ним было
разработано соответствующее контрольное оборудование и им оснащены серийные
заводы. Изучена длительная прочность и ползучесть сплава АМГ-6 и получены
кривые ползучести сплава при различных температурах. На основании этих кривых
определены предельно допустимые напряжения в баках, находящихся все время под
внутренним давлением. Критерием выбора служило требование недопущения
остаточных деформаций в баках более 0,2% за счет ползучести материала баков за
весь срок эксплуатации. И сейчас, когда снимают с эксплуатации по одной
аналогичной ракете в год для обследования, видно, что именно ползучесть материалов
баков будет определять срок предельной эксплуатации ракет, баки которых находятся
все время под внутренним давлением. Эти сроки весьма удовлетворительно
совпадают с теми, которые мы определили тридцать лет тому назад. Это приятно и
тешит мелкое самолюбие, никем не отмечаемое и не признаваемое. Но не для этого
мы тогда работали.
Помимо отмеченного, тогда были разработаны нами
требования и определены нормы чувствительности и пределы срабатывания чувствительных
элементов системы контроля загазованности парами компонентов и определена
структура этой системы. Это во многом определило надежность ее
работоспособности. Хотя с датчиками в процессе эксплуатации пришлось
повозиться.
Исследован процесс поглощения паров компонентов
различными сорбентами, разработаны средства их поглощения на ракете. Это делалось,
также как и испытания материалов в загазованной среде компонентами топлив, на
всякий случай, если появится загазованность на ракетах в процессе эксплуатации
и мы знали бы, что нужно будет предпринять в такой ситуации.
Определена оптимальная величина влажности в контейнере
для того, чтобы не пересыхали материалы и вместе с тем надежно предотвратить
появление на ракете атмосферной коррозии.
Ну и были разработаны эффективные средства ремонта
ракеты в шахте, потерявшей герметичность. Челомей отрицательно относился к необходимости
проведения этих разработок. Но я вел их на свой страх и риск. Он знал, что я их
веду, но абсолютно ими не интересовался. И слава богу, что они действительно не
пригодились, поскольку необходимости в ремонте ракет не возникло.
Газонасыщением компонентов топлив занимался
двигательный отдел нашей фирмы под непосредственным руководством Полухина Дмитрия
Алексеевича, который был тогда заместителем Генерального конструктора по
двигательным установкам. От степени газонасыщения компонентов зависит
бескавитационная работа двигателей с одной стороны, а с другой стороны оно
определяет величину давления в баках. Поэтому данную работу было сподручнее
вести двигательному отделу.
Для проведения всех отмеченных исследований, а также
по их анализу и обобщению нашим отделом было выпущено в те годы значительное
количество разнообразной документации. Так, было выпущено 392 технических
задания и программ, 28 методик
различных испытаний. Для проведения испытаний по указанным исследованиям было
изготовлено и испытано следующее количество разнообразных объектов испытаний,
разработанных нашим отделом:
|
— образцы и конструктивно-подобные элементы для
исследований в компонентах |
—
915 шт. |
|
— в парах, загазованных компонентами |
—
4100 шт. |
|
— осадкообразование в компонентах |
—
30 шт. |
|
— ползучесть и длительная прочность |
—
600 шт. |
|
— проницаемость компонентов через микродефекты в
сварных швах на имитаторах течей |
—
215 шт. |
|
— диффузионная проницаемость компонентов на специальных
ампулах |
—
25 шт. |
|
— конструктивная прочность баков на модельных бачках |
—
43 шт. |
|
— работоспособность под воздействием компонентов: натурных агрегатов топливного тракта |
—
250 шт. |
|
модельных сборок натурных баков |
—
4 шт. |
|
— испытание штатных заправленных ракет: в экспериментальных шахтах в Фаустово |
—
4 ракеты |
|
в экспериментальном боевом ракетном комплексе в
составе ракетных войск |
—
10 ракет |
В отделе мы
тогда оформили специальный альбом с фотографиями основных агрегатов и образцов,
испытывавшихся на длительное хранение. Тогда он нам помогал наглядно
демонстрировать нашу работу в высоких кабинетах, Сейчас нелишне будет привести
некоторые из них.
Испытания
всех этих объектов проводились в соответствующих структурных подразделениях
предприятия, различных НИИ и в войсках по методическим документам,
разработанным нашим отделом. Сами мы испытания не вели, а только задавали их,
получали результаты, обрабатывали их и выдавали соответствующие заключения.
Поэтому в отделе и было всего 16 человек. В этом и состояла уникальность нашего
отдела. Его малая численность доставляла немало хлопот Бугайскому при ежегодных
финансовых проверках предприятия. Согласно Положению в отделе должно было
находиться не менее 70 человек и наш отдел никак не подходил под определение отдела.
Поэтому Бугайский постоянно объяснялся с инспекторами. Потом ему надоело и он
образовал у меня подразделение по обеспечению длительной обитаемости в космических
аппаратах, когда мы начали заниматься этой тематикой.
Вначале,
когда образовывался отдел, я настаивал, чтобы отдел сам и проводил испытания.
Но Бугайский прозорливо тогда категорически отклонил это, считая, что это не
должно нас отвлекать от творческой аналитической работы, которую он считал
главной. Потом это блестяще подтвердилось и только благодаря такой организации
удалось так широко и всесторонне развернуть работы по столь ответственной и
важной тематике. Это вылилось не только в большой объем практических
результатов, воплощенных в ракете при ее создании, но и в творческих.
В 70-х
годах, когда все эти работы были закончены и был накоплен достаточный
положительный опыт эксплуатации, подтвердивший все наши прогнозы и
рекомендации, мы обобщили все проделанное и выпустили ГОСТ по обеспечению
долговечности жидкостных ракет. В нем мы определили, что для обеспечения
необходимой долговечности ракет на жидком топливе нужно проводить 112 видов
различных испытаний образцов, моделей, агрегатов и ракет в целом. На 48 видов
этих испытаний существуют соответствующие ГОСТЫ, на 28 видов испытаний
разработчик ракеты должен сам разрабатывать свои методики испытаний, поскольку
наших материалов было недостаточно для необходимого обобщения. На 36 видов
испытаний мы приводили свои методики, разработанные и апробированные нами.
По всем этим исследованиям у нас и в различных НИИ и
КБ было защищено семь кандидатских диссертаций, из которых три было защищено в
нашем отделе. Была защищена и одна моя докторская диссертация, которую мне дали
разрешение защитить только в середине 80-х годов — это спустя двадцать лет
после завершения работы, но об этом позже.
Проведению исследований и реализации наших
рекомендаций сопутствовали многие эпизоды, большинство из которых вспоминаются
с большим удовольствием. Но было немало ситуаций, которые оставили далеко не
приятные воспоминания. В деловой и производственной жизни это нормальное
явление, но эти неприятности также не должны забываться, ибо опыт — это
количество полученных «шишек» от жизни. Поэтому нужно писать и говорить не
только о хорошем, но и о не совсем хорошем с тем, чтобы оно поменьше
повторялось. И, конечно, нужно было бы написать и о тех, кто создавал у нас эту
технику. Но так же, как и об участниках создания самолетов, мне придется ограничиться
приведением только фотографий основных из них.
НАС
УЧАТ
На одном из высоких совещаний в верхах обсуждался ход
работ по разработке ракет у нас и в «Днепре», как мы называли КБ «Южное», где
после кончины Янгеля его место занял Уткин В. Ф. На этом совещании Устинов, не
знаю на каких основаниях, сделал замечание
Челомею, что у него плохо развернуты работы по длительному хранению, а вот у
Уткина эти работы ведутся на должном уровне. Челомей тут же нашелся и попросил
дать указание, чтобы нас ознакомили с их работой по этому вопросу.
На следующий день Челомей вызвал меня и поручил
выехать в Днепропетровск к Уткину и ознакомиться с их работами по длительному
хранению, строго приказав, чтобы я ни словом не проговорился о наших работах.
Для уверенности, что я не проболтаюсь, он приставил ко мне по конструктору
проектных отделов из Реутово и Филей, которые абсолютно этими вопросами не
занимались, но были в курсе общей постановки.
Нас три дня не пропускали на территорию и я все эти
дни вел интенсивные переговоры с министерством, пока оттуда не заставили днепропетровцев
все же нас пропустить и принять. Нас посадили в один из свободных кабинетов
какого-то начальника и оттуда никуда не выпускали в течение двух дней, что мы у
них были. Нас принимал начальник проектного отдела Эрик Кошанов.
Они приносили нам любую документацию, которую мы
просили. Мы начали естественно с эскизного проекта их тяжелой ракеты, которая у
них была оставлена в разработке после «ялтинских ракетных посиделок». Проект
меня удивил. Это была точная копия американского «Титана», только в худшем
исполнении. В «Днепре» в баках устроили гидрозатвор через какую-то
кремнеорганическую жидкость, вместо того, чтобы их надуть, как консервную банку
закупорить, и не иметь после этого никаких хлопот. Но для этого нужно было
решить проблему газонасыщения компонентов, а они не решились на это. Об этом я
промолчал.
Принесенный план работ по длительному хранению,
который они также составили по тому же постановлению правительства, был куцый и
носил отрывочный характер с набором разобщенных работ. Я и здесь промолчал,
помятуя о наказе Челомея и имея двоих конвоиров рядом.
Но когда начали приносить рабочие чертежи агрегатов и
систем ракеты и особенно ее топливного тракта, тут уж я не удержался. У них топливный
тракт был весь собран на разъемных соединениях с уплотнениями с последующей
затяжкой болтами. К тому времени, как я уже
писал, мы провели пробные эксперименты и показали, что эти разъемные
соединения со временем начинают течь за счет ослабления затяжки болтов,
происходящего за счет релаксации напряжений. Наиболее надежное разъемное
соединение будет при двухбарьерном уплотнении, которое разработали наши
конструкторы. Эти уплотнения стали использовать у нас на нашей ракете «Протон».
Но для ракет длительного хранения мы считали, что и эти соединения нельзя применять.
Для них нужно применять только сварные соединения, которые мы использовали у
себя. Я обо всем этом им рассказал, но на них это не подействовало. Один товарищ
из них горячо меня поддержал, но его грубо удалили после этого из кабинета.
Основное их возражение состояло в том, что для выполнения сварных соединений на
ракете нужно разработать и изготовить много специальных сварочных автоматов. А
оптимальную степень затяжки болтов они подберут.
Буквально через 2—3 года жизнь показала насколько они
были неправы и как дорого стране пришлось заплатить за их высокомерие и упрямство,
проявленные тогда. У нас же, разработанные такие автоматы, с лихвой окупились.
Челомей строго следил за тем, чтобы на ракете не было ни одного разъемного
соединения. Это стало потом непременным условием для всех жидкостных ракет не
только длительного хранения.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА
После выхода
постановления о создании
специальной экспериментальной базы по длительному хранению в нашем ОКБ, мы
начали формировать облик такой базы. При составлении «Комплексного плана…» мы
определили, в первую очередь, возможности использования существующей
экспериментально-лабораторной базы у нас, в НИИ и других ОКБ, которые принимали
участие в этих работах. Стало ясно, что лабораторно-исследовательская база по
многим вопросам, подлежащим исследованию, существует и имеется в наличии. Но
для исследований, связанных с компонентами ракетного топлива, лабораторная база
незначительна. В ГИПХе была база, на которой можно было провести испытание
модельных сборок, агрегатов и небольших образцов, но в ограниченных объемах.
Поэтому во исполнение постановления правительства было принято решение о
строительстве в Фаустово под Москвой лабораторного комплекса ОКБ по испытаниям
в среде компонентов ракетного топлива агрегатов топливной системы в больших
количествах. Там же решили построить две штатные шахтные пусковые установки с
соответствующей измерительной аппаратурой для испытаний одной штатной ракеты по
ускоренному методу, а во второй шахте проводить испытания такой же ракеты, но
уже в естественном режиме эксплуатации. Одновременно, в системе министерства обороны,
было принято решение о строительстве в Байконуре экспериментального боевого
ракетного комплекса из десяти шахт. Он был первым поставленным на экспериментальное
боевое дежурство без головных частей ракет в 1965 году.
На создание базы в Фаустово и ракетного комплекса в
Байконуре наш отдел разработал и выдал технические задания. Проектирование фаустовской
базы велось под нашим курированием. Затем, когда началось ее строительство, был
создан специальный отдел в Фаустово, как структурное подразделение ОКБ. Он
очень быстро вырос по своему составу до нескольких сот человек. Эти две базы
сыграли очень существенную роль в работах по обеспечению длительного хранения.
Кроме этих испытательных баз нам стало ясно, что
срочно нужно создавать экспериментально-лабораторную службу у нас в производстве
по исследованию проблем герметичности топливного тракта и производственного контроля
его герметичности. Мы сформировали тематику, задачи и методологию исследований
для них на основе своих уже проведенных исследований по этому вопросу. Такие
службы были созданы у нас в производстве и на соседнем заводе им. Хруничева.
Этот завод был головным по освоению производства разрабатывавшихся нами ракет.
У нас эту службу возглавил молодой технолог из цеха
Щасливый В. А., а на заводе Флоровский К. Л., выросшие в прекрасных специалистов.
Впоследствии Щасливый В. А. стал главным инженером 1-го Главного управления
Минобщемаша, а Флоровский К. Л. главным конструктором завода им. Хруничева
(ЗИХ).
Наряду с испытаниями на этих базах проводились
исследования в ВИАМ под руководством Батракова Владимира Павловича и Гурвич Лии
Яковлевны, в ЦНИИМВ под руководством Конради Георгия Георгиевича и Кузнецова
Георгия Георгиевича, в НИИ-25 МО во главе с Братковым Анатолием Андреевичем, в
НИИ-40 МО во главе с Лазуткиным Николаем Петровичем. Много в области
герметичности и других вопросах сделал Селин Михаил Ефстафьевич в Военной
академии химической защиты и Страхов Борис Васильевич в лаборатории катализа
химфака МГУ.
Особенно хотелось бы отметить самое непосредственное
участие во всех этих работах основных участников создания ракетного жидкого
долгохранящегося топлива в ГИПХе Маркова Сергея Сергеевича, Бушуева Семена
Федоровича, Сиволодского Евгения Андреевича, Антипенко Георгия Леонидовича,
Дрожжина Павла Федуловича, Павлова Николая Васильевича и многих других
сотрудников института, перечислить которых не хватит места, как впрочем и во
всех других институтах.
Все эти НИИ работали по единому плану, тесно
сотрудничая с нами и между собой. Мы часто встречались, обсуждали и
координировали свои работы. Поэтому сбоев практически не было. Мы у себя
организовали четкое диспетчирование изготовления материальной части для исследований
и это во многом помогло тому, что исследования шли без задержки и были
выполнены в срок. А изготовлено было громадное количество различных объектов
испытаний, о которых говорилось ранее. Шла дружная коллективная работа. Получаемые
результаты мы обобщали и реализовывали в качестве тех или иных рекомендаций,
которые воплощались либо непосредственно в конструкцию, либо в тех или иных
техпроцессах изготовления ракеты и ее узлов. Одновременно вносились и
определенные рекомендации в эксплуатационную документацию. По этим вопросам
отделом было выпущено 389 различных отчетов, заключений и планов работы,
содержащих те или иные рекомендации для использования.
По этим работам в различных НИИ начали выходить закрытые
сборники статей. По тематике отдела его сотрудники опубликовали более 30 статей
в специальных изданиях. Это, я думаю, хороший творческий итог для такого
маленького, но дружного коллектива.
В 1972 году «Литературная газета» начала моей большой
статьей дискуссию об этике ученого при коллективном творчестве. В этой статье я
описал творческую обстановку в нашем отделе и результативность его работы.
Неординарность полученных результатов, очевидно, побудила редакцию опубликовать
мою статью.
Летные испытания ракет проходили на нашем полигоне в
Байконуре. Перед началом летных испытаний там прошло заседание Государственной
комиссии, которая рассмотрела весь ход работ по созданию ракеты УР-100 и дала
добро на начало летных испытаний. О работах по длительному хранению доклад
поручили сделать мне. Это было мое первое выступление на столь солидном и
ответственном собрании. Перед моим докладом Челомей как-то обронил, что за мой
доклад он спокоен, Кулага их заговорит. И действительно моим докладом все остались
довольны и замечаний по ходу работ по длительному хранению не последовало. Но
затем произошел один казус, который существенно отразился на мне лично.
В контейнере ракеты мы установили довольно жесткие
пределы по влажности с тем, чтобы не происходила атмосферная коррозия материалов
на ракете, и согласовали эти условия со всеми материаловедческими институтами,
которые, в свою очередь, выдали гарантии на работоспособность материалов в этих
условиях. Для обеспечения этого предела влажности нужно было проводить осушку полости
контейнера с ракетой. Об этом все знали. И вместе с тем, Бугайский и Дьяченко
на полигоне подписали решение о существенном расширении допустимой влажности в
контейнере с тем, чтобы упростить жизнь военным-эксплуатационникам. А военные
из числа заказчиков, узнав об этом, подняли шум, что при такой влажности
установленные ранее нами гарантии на материалы и комплектующие узлы теперь
недействительны и их все теперь нужно пересогласовывать.
Очень скоро это стало известно Челомею и он весь свой
гнев вылил на меня, запретив мне выезжать с полигона до тех пор, пока я не восстановлю
гарантии. Бугайский и Дьяченко подписали решение, не поставив меня в
известность, и в итоге я попал в непонятное положение. В принципе мы показали
ранее, что влажность можно поднять, но не делали этого из-за возможной потери
гарантии как раз перед началом летных испытаний. Но как я мог теперь
восстановить гарантии, сидя на полигоне, в то время когда институты в основном
в Москве. Но Челомей ничего не хотел знать и, уехав сам с полигона, не разрешал
мне из Москвы выехать с полигона. Бугайский ничего не мог сделать с моим вызволением
и вынужден был сам заниматься восстановлением гарантий, а я без дела сидел в
Байконуре.
Но для меня лично это время не пропало даром. За
полтора лишних месяца, что я просидел на полигоне, я написал по памяти
кандидатскую диссертацию на тему «Разработка промышленной технологии изготовления
корпуса головной части ракеты методом комбинированной намотки из
стеклопластика». В Москве я дополнил ее формулами, таблицами, графиками и
успешно защитил. Так, что меня «наказали».
Первый пуск ракеты оказался блестящим настолько, что
всех это озадачило. У испытателей существует поверие, что если первый эксперимент
прошел без сучка и задоринки, то дальше жди неприятностей. Так случилось и с
нашей УР-100.
После первого пуска, последующие ракеты начали падать.
Поиск причин не давал результатов. К тому времени Челомей, на амбициозной
почве, повздорил с главным конструктором, корифеем систем управления ракетами
академиком Пилюгиным и все беды валил на систему управления. Однажды, по
возвращению с полигона, находясь в кабинете Челомея, я стал свидетелем
разговора по телефону его с главным конструктором двигателей Конопатовым А. Д.,
который заявил Челомею, что они нашли конструктивную недоработку в своем двигателе
и им нужно дорабатывать весь задел изготовленных двигателей, включая и те, что
установлены уже на готовых к испытаниям ракетах. А это значило, что нужно
срезать двигатели на готовых ракетах и ждущих отправки на полигон.
Челомей начал яростно разубеждать Конопатова и
доказывать, что тот ошибается, а виновата во всем система управления. Но
Конопатов твердо стоял на своем и разговор ничего не дал. После этого
разгорелся громадный скандал. Срывался график Государственных испытаний. Но
Конопатов смог убедить Государственную комиссию, двигатели срезали, доработали
и испытания дальше пошли успешно. Правда, после этого был еще ряд «утыков», как
говорят испытатели, но все они успешно были преодолены и испытания были
завершены с блестящими результатами. Ракета УР-100 была принята на вооружение.
Оригинальность и новизна созданной нами ракеты УР-100
заслуживает того, чтобы сказать хотя бы краткое доброе слово в адрес ее основных
разработчиков. Все они получили заслуженные награды и хорошо известны в
ракетно-космических кругах. Имена некоторых начали появляться в печати, но
далеко не всех. И я не смогу всех перечислить, а только тех с кем мне
приходилось наиболее часто сталкиваться по работе.
Проект ракеты разрабатывался под
руководством Карраска В. К. и Дермичева Г. Д. Главным конструктором ракеты был назначен Дьяченко Юрий Васильевич.
Ведущим конструктором ракеты был Орочко Д. Ф., а его заместителем Хазанович Г.
А. Рабочие компоновки ракеты разрабатывались под руководством Обрезкова Б. П.
Топливная система и двигательные установки
разрабатывались под руководством Полухина Д. А., Миркина Н. Н. и Наумова
Л. С. Аэродинамические расчеты велись под руководством Домбровского Ю. и Комарова В. С. Каркасными работами руководили
Нодельман Я. Б., Попов К. И., Мурашов Д., Холмогоров А. В., Рейтер Г. С.
Расчеты на прочность выполнялись под руководством Чернякова Д. С. Разработка
механизмов и разъемов велась под руководством Юшкевича Н. Н. и Кошелева А. Д.
Работы на полигоне в Байконуре обеспечивали Невернов
П. С., Козаков М. С., Шехоян А. С. Испытательный отдел длительного хранения в
Фаустово вначале возглавлял Шпанько К. С., а затем Васканьянц А. А. Отдел
главного металлурга возглавлял Мусатов А. А., а отдел неметаллов Руденко Г. С.
Главным инженером был Рыбко К. С., а
главным технологом Заславский Ю. Г.
Все эти руководители внесли громадный вклад в создание
нашей первой ампулизированной ракеты УР-100, составившей целую эпоху в нашем
отечественном ракетостроении, незаслуженно не вошедшую в вузовские учебники,
как ее оригинальнейшая конструкция так и все то, что пришлось решить при ее
создании.
А тот случай технической принципиальности и
человеческого мужества, проявленный Конопатовым, оказал на многих заметное
влияние и был достойно оценен. Еще задолго до окончания летных испытаний и
сдачи ракеты на вооружение с последующими многочисленными награждениями,
Конопатов один из всех главных конструкторов был удостоен звания Героя
Социалистического труда. Для этого нашли «необидный» для завистников способ наградить
по результатам деятельности за пятилетку, как тогда практиковалось в
промышленности.
А вот «техническая принципиальность», как
социологическое и психологическое явление, изучена еще недостаточно, да, к
сожалению, еще и не формулируется в такой постановке. А в жизни это явление
встречается сплошь и рядом. Как часто приходится наблюдать, когда начальство
понуждает исполнителей принимать те или иные технические решения и далеко не
всегда оптимальные, а иногда даже вредные. Но они нужны руководителям для
достижения ими каких-либо иных целей, подчас далеко отстоящих от целей дела.
Сиволодский как-то сказал, что это «политическая техника», которая плетется
сплошь и рядом в отличие от настоящей технической политики. Упорство подчиненных
в подобных ситуациях, касающихся «малых дел» и непринципиальных вопросов,
делает сопротивляющихся малоудобными людьми со всеми вытекающими из этого
последствиями для них. Но если дело касается «больших вопросов» то
сопротивляющийся становится врагом и борьба уже с ним ведется «на уничтожение»
независимо от деловых качеств и служебного положения.
Это социальное явление порождено, в основном, и
разросшееся до необычайных размеров, именно при Советской власти, когда технические
руководители могли безнаказанно идти на неоптимальные технические решения ради
своих амбиций и корыстных целей. Сколько таких конфликтов знала наша история?
Графтио и Виттер при строительстве Волховстроя. Керженцев и Гастев при
становлении советской теории управления производством. Туполев и Неман по
металлическому и деревянному самолетостроению. Королев и Глушко по ракетному двигателестроению.
А сколько их было, что мы их и не знаем! О подоплеке вторых «ракетных дебатах»,
происходивших именно на основе «политической техники», я еще расскажу,
поскольку мне пришлось попасть, по меткому выражению Лукьянова, «на периферию
большой политики» в области ракетного вооружения.
РАКЕТЫ НАЧАЛИ ТЕЧЬ
Мне по ходу
данного повествования приходилось не раз упоминать, что герметичность
тепловых трактов является одной из важнейших характеристик жидкостных ракет. Да
и не только жидкостных ракет. Один из «Шаттлов» погиб с экипажем в 80-х годах
именно по причине негерметичности, но на этот раз уже твердотопливного двигателя.
Так, что вопрос герметичности является краеугольным для всех технических и технологических
систем, содержащих в своем составе высокотоксичные, коррозионноактивные, взрыво
и пожароопасные, а также радиоактивные жидкости, твердые или газообразные
вещества. Особенно это свойство
сказывается в атомной технике и промышленности, чреватыми наиболее тяжкими
последствиями, и там эта задача решена на высоком техническом уровне с
высочайшей надежностью, чего нельзя сказать о трубопроводном транспорте у
нефтяников и газовиков. Мы становимся свидетелями все большего числа аварий и
катастроф различных трубопроводов, связанных с потерей их герметичности. Это
происходит только потому, что их разработчики, в отличие от атомщиков и ракетчиков,
отнеслись недостаточно внимательно к проблеме обеспечения длительной
герметичности трубопроводов и разработке автоматизированной дистанционной
системы контроля их герметичности. Существующий уровень науки и техники в этом
вопросе позволяет высоконадежно решить проблему герметичности и в этом виде
техники.
Когда мы только начали разрабатывать ракету УР-100,
мудрый Нодельман, оценив значение задачи обеспечения герметичности, однажды
изрек фразу, которая затем стала у нас крылатым афоризмом на многие годы: «Нет
такой цены, которую нужно заплатить за обеспечение герметичности».
Поэтому с самого начала работ мы основательно взялись
за изучение этой проблемы. В первую очередь мы изучили природу образования
микродефектов в сварных швах и в сплошном материале, приводящих к появлению
микротечей, через которые могли бы истекать компоненты топлива. Затем разработали
мероприятия, позволяющие резко уменьшить их появление. Особое внимание уделили
тщательному изучению природы и характера истечения компонентов через микропоры
в металле и установили экспериментальным путем их закономерности, которые
никаким образом не подчинялись аналитическим зависимостям, описываемым на
основе классической гидродинамики истечения жидкостей и газов через
микроканалы. Это позволило нам установить эквивалент между истечением
компонентов топлива на заправленной ракете и чувствительностью средств контроля
в процессе ее изготовления. Одновременно мы установили экспериментальным путем
величину микроканала, через который истечение компонентов уже не происходило.
Этими работами мы установили требования по степени чувствительности средств контроля
герметичности в производстве. Этим требованиям удовлетворяли только
масспектрометрические методы, используемые только в вакуумной технике. Эту
наиболее высокочувствительную технику контроля герметичности мы ввели в ракетное
производство.
Для определения норм герметичности топливного тракта
мы разработали свой метод расчета, основанный на результатах наших экспериментов.
С его помощью мы рассчитали необходимую степень чувствительности, с которой
необходимо проверять герметичность в производстве. Причем, мы завели в документации
тройную проверку герметичности: на стадии изготовления деталей, агрегатов и
всего изделия в целом. Это давало уверенность в надежности выполнения
контрольных операций в производстве. И тем не менее…
При обеспечении герметичности в производстве со
средствами контроля герметичности, чувствительность которых мы определили, ракеты
течь уже не могли. Для этого пришлось разработать у нас специальные методы и
средства контроля герметичности. Этими средствами и методами затем были оснащены
серийные заводы, изготавливавшие ракеты, кроме одного, о котором речь пойдет
дальше.
Одновременно мы разработали требования на разработку
автоматизированной системы контроля герметичности заправленных ракет на боевом
дежурстве. Она основывалась на принципе замера концентрации паров компонентов,
вытекших из ракеты в случае потери ее герметичности. Мы определили и рассчитали
величину минимальной концентрации паров компонентов с тем, чтобы система подала
сигнал до того, как ракета выйдет из строя от воздействия на нее коррозионноактивных
паров компонентов. Эта система в начальный период эксплуатации ракет на боевом
дежурстве причинила нам немало хлопот. Ее датчики, установленные на ракете,
оказались настолько чувствительными, что срабатывали не только от паров компонентов,
но и от газовыделений из различных материалов и выдавали ложный сигнал на командный
пункт. Иначе — они были неизбирательного действия. Это нервировало воинские
части и поднимало переполох в ЦК КПСС и в Главном штабе войск стратегического назначения,
поскольку при подаче аварийного сигнала этой системой ракета снималась с
боевого дежурства и проводились поиски причин неисправности. А ЦК КПСС здесь
фигурирует потому, что там велся ежечасный контроль состояния боеготовности и
безопасности всех ракет стратегического назначения. И при появлении какой-либо
неисправности и внепланового снятия ракеты с боевого дежурства доклад из частей
шел одновременно в эти два адреса. И доклад в ЦК имел более серьезные
последствия чем в Главный штаб. Это еще один из поводов по изучению задач и
роли партии в нашем обществе не только в политическом плане, но и в оборонном,
и народнохозяйственном, как задающего и контролирующего органа.
Мы изучили проблему ложных срабатываний, разработали
рекомендации и после их реализации ложные срабатывания прекратились и эта
система надежно работала в течение многих лет, пока ракеты находились на боевом
дежурстве.
Первая ракета, которая потекла была установлена в
экспериментальной шахте в Фаустово в нашем испытательном отделе. Течь оказалась
на фланце одной из магистралей двигателя. Этот фланец был выточен из прутка
металла, изготовленного на металлургическом заводе методом протяжки. При таком
изготовлении волокна в металле располагаются вдоль прутка и при вытачивании из
него детали эти волокна перерезаются. Вот через микроканалы между перерезанными
волокнами и происходит проникновение ракетного топлива, казалось бы через
сплошной качественный металл. После этого было принято решение не использовать
прутки при изготовлении деталей для топливного тракта методом точения. Для этой
цели стали применять заготовки, изготовленные методом ковки, при котором
волокна в металле уже не располагаются однонаправленно вдоль заготовки, а
хаотично переплетаются за счет ковки и сплошные каналы вдоль волокон не
образуются. Больше таких дефектов после этого случая мы не встречали.
Первая потекшая экспериментальная ракета особой
тревоги не вызвала, а даже наоборот подтвердила правильность нашей методологии
отработки длительного хранения ракеты. Эта ракета позволила быстро установить
причину негерметичности и устранить ее и этим как бы ракета в Фаустово уже
выполнила свою задачу.
Но последующие события резко изменили ситуацию, когда
на боевое дежурство встали первые ракетные комплексы с нашими ракетами.
ПЕРВЫЕ РАКЕТЫ, СНЯТЫЕ С БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА
В конце 60-х годов, после того как на боевое дежурство
было поставлено значительное количество ракет УР-100, сразу же проявился в действии
закон больших чисел. Из одной воинской части поступило сообщение, что на одной
из ракет появилась загазованность парами компонентов ракетного топлива. Это
значит, что в топливном тракте появилась течь. Руководство и меня направили в
эту воинскую часть для осмотра ракеты и принятия решения на месте. К слову
сказать, мне пришлось затем ездить на все ракеты, потерявшие герметичность в воинских
частях, и проводить их обследование. Во всех случаях я один ползал по ракете,
стоящей в шахте, с тем, чтобы не рисковать жизнью других. При неизвестном
источнике течи с ракетой могло произойти все, что угодно, вплоть до взрыва, как
это произошло с маршалом Неделиным на полигоне в Байконуре, когда при взрыве
ракеты погибло вместе с ним около 60 человек.
На одной из ракет у меня был весьма неприятный случай
и я пережил несколько напряженных минут. В одном из отсеков ракеты я замерил
ручным прибором взрывоопасную концентрацию гептила. При малейшем стуке, искре
или встряхивании ракеты эта смесь паров гептила с воздухом самопроизвольно
взрывалась, в отличие от паров окислителя, которые только коррозионнопасные.
Визуально я видел, что по бокам ракеты были видны потеки окислителя, а замеры
показывали наличие паров гептила, да еще взрывоопасной концентрации. Это было
уже совсем непонятно.
С чрезвычайными предосторожностями я вылазил из
ракеты, боясь за что-либо зацепиться или стукнуться о что-либо, поскольку в
отсеках ракеты и в пространстве между ракетой и пусковым контейнером очень
тесно. Выйдя из ракеты, я распорядился обесточить ее, опломбировать шахту с
ракетой и никого к ней не подпускать без моего разрешения, а сам обо всем этом
доложил в Москву заместителю Челомея по эксплуатации Юрию Васильевичу Дьяченко.
Он по моей просьбе быстро привлек науку к изучению этого случая. В одном из НИИ
установили, что малые концентрации паров
окислителя и гептила при смешении их в воздухе дают при экспрессанализе,
которым я пользовался, показание о наличие взрывоопасной концентрации гептила.
Следовательно, на этой ракете одновременно дали течи окислительный и гептильный
тракты, в результате чего появились малые их концентрации, давшие ложное показание
о наличие взрывоопасной концентрации гептила. Продув сухие отсеки ракеты от
паров, мы слили топливо из ракеты, а саму ракету заменили на новую.
Осматривать меня посылали потекшие ракеты для того,
чтобы на месте убедиться в том, что устранить течь не представляется возможным
и ракету нужно сливать и заменять на новую. Всего у нас потекли 12 ракет из
порядка тысячи ракет, стоявших на боевом дежурстве и ни на одной из них я не
мог найти течи в шахте. Поэтому по всем текущим ракетам было принято решение о
замене их на новые.
Снятые с боевого дежурства ракеты, потерявшие
герметичность, направлялись на завод-изготовитель для нахождения места течи, квалификации
причин ее появления и разработки мероприятий по недопущению их в дальнейшем.
Квалификация причин появления течи служила основанием военным для предъявления
штрафных санкций промышленности. Если определялось, что причиной появления течи
является пропущенный и неустраненный производственный дефект в процессе
изготовления, то завод-изготовитель ракеты платил армии штраф и поставлял
бесплатно армии новую ракету взамен выбывшей из строя. Если причиной могла
явиться какая-либо конструктивная недоработка в самой ракете, то тогда нужно
было бы дорабатывать все ракеты, стоящие на боевом дежурстве. Забегая вперед,
скажу, что у нас не было выявлено ни на одной из 12 ракет наличия какого-либо
конструктивного недостатка, который мог бы привести к потере герметичности
ракеты.
В силу такого большого значения работы по дефектации
снятых с эксплуатации ракет, создавалась специальная комиссия приказом по министерству
общего машиностроения, к которому мы относились. Председателем первых двух
комиссий назначался Нодельман. Комиссии создавались по каждой потекшей ракете и
в них входили представители нашего ОКБ, завода-изготовителя, специалисты НИИ и
представители военных.
За период с 1966 года по 1970 год было снято с
эксплуатации по причине негерметичности и возвращено на завод всего четыре
ракеты. При их дефектации комиссиями было установлено, что причинами негерметичности
явились случайные отступления от технологии при их изготовлении и это не
вызывало особого беспокойства. Поэтому возглавлять комиссии по следующим двум
ракетам уже поручили мне, а не Нодельману. В 1970 году картина резко
изменилась. Мы дефектировали очередную снятую ракету, как одна за другой
потекли сразу пять ракет. Это вызвало шок в верхних эшелонах руководства. Под
угрозой оказалась надежность главной составляющей ядерного щита страны. Было
принято решение создать межведомственную комиссию по тщательному изучению
возникшей ситуации. Мне предложили определить состав комиссии и возглавить ее.
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Работа в этой
комиссии составила главный этап моей жизни, потребовавший мобилизовать все свои
душевные и физические силы и определивший мою судьбу на всю оставшуюся жизнь.
Несмотря на то, что мы достигли в комиссии блестящих результатов и прекрасно
решили поставленную задачу, работа в этой комиссии напрочь перекрыла мне
какие-либо возможности и пути дальнейшего роста по службе. Но об этом позже.
Когда мне предложили возглавить комиссию, то я принял
это как должное, прекрасно понимая значение возникшей задачи, трезво оценивал
свои возможности и знания и поэтому мог полностью сосредоточиться на ее
решении. Я не думал тогда о возможных последствиях для меня лично в зависимости
от результатов работы комиссии. Я думал только о деле и не задумывался о том,
почему меня назначили во главе ее, а не Нодельмана. Об этом я стал думать
гораздо позже, но так и не нашел ответа, а о предположениях говорить не стоит.
На межведомственную комиссию возлагались следующие задачи:
—
исследование и
обобщение причин появления негерметичности топливных трактов,
—
анализ
технологических процессов изготовления ракет и двигателей к ним на соответствие
их требованиям конструкторской документации,
—
разработка
мероприятий и рекомендаций, направленных на повышение качества изготовления ракет,
а также на повышение качества и надежности контроля герметичности топливных
трактов.
В состав комиссии
вошли представители различных НИИ и КБ Минобщемаша, Минавиапрома, Минхимпрома и
Минобороны. В нее вошли специалисты нашего ОКБ, конструктора, разработавшие
двигатели, специалисты заводов, изготавливавших ракеты и двигатели, а также специалисты
нескольких НИИ из каждого министерства. Всего в комиссию вошло 38 человек,
большинство из которых я знал лично и тесно сотрудничал с ними в течении всего
последнего времени, когда мы занимались длительным хранением ракет. Отношение в
комиссии ко мне и между собой были нормальные и ровные, а подчас и дружеские.
Поэтому нам было легко находить общий язык, не поступаясь интересами дела.
В составе комиссии я образовал три подкомиссии со
следующими задачами:
—
исследование
причин негерметичности и анализ методов контроля герметичности в производстве,
—
анализ
конструкторской документации на предмет правильности установления норм
герметичности топливных трактов,
—
обследование
технологии изготовления ракет и двигателей на серийных заводах.
Подкомиссии выезжали
и работали на заводах и в конструкторских бюро, и в некоторых НИИ. Совместный
приказ указанных министерств об образовании комиссии был подписан в ноябре 1970
года, а уже в марте 1971 года мы подписали итоговый отчет с заключением, написанный
мною собственноручно на 175 листах с использованием отчетов трех упоминавшихся
подкомиссий, работа которых шла под моим руководством и контролем. Этот отчет
ныне рассекреченный, хранится у меня как память и даже как исторический теперь
документ о тех напряженных и трудных днях моей жизни.
Работу подкомиссий мне пришлось организовывать самому,
поскольку со стороны министерства и моих непосредственных руководителей на
предприятии никто в работу комиссий не вмешивался и не давал «ценных» указаний.
К тому же, инициатива образования этих комиссий исходила от меня. Я их
образовал с тем, чтобы расширить фронт исследований, привлечь побольше к этому
других специалистов из различных предприятий, не входивших в состав комиссий,
а, главное, перенести всю работу на предприятия и ускорить работу всей комиссии.
Я написал инструктивное указание каждой комиссии об объеме и характере работ,
которые они должны были выполнить на предприятиях и эти документы были для них
основанием для взаимодействия с руководством предприятий. Текущий ход работ
подкомиссий мы постоянно обсуждали на пленарных заседаниях, на которых намечали
оперативно планы дальнейших их работ на основе получаемых результатов.
В результате проведенных исследований межведомственная
комиссия установила, что течи компонентов топлива на ракетах появились в силу
имевших место нарушений технологических
процессов, а также несовершенства некоторых применявшихся видов контроля
герметичности и типа сварочного оборудования. Каких-либо конструктивных
недостатков ракеты или неизученных каких-либо физико-химических процессов,
могущих привести к массовой потере герметичности ракет, не выявлено.
Комиссией было разработано порядка 90 наименований
рекомендаций по следующим вопросам: технология сварки — 12 мероприятий,
контроль герметичности при сварке — 16, организационные мероприятия — 17,
научно-исследовательские работы — 22, эксплуатация в воинских частях — 10,
рекомендации по конструкции перспективных ракет — 13. Эти рекомендации
предстояло реализовать на заводах, в КБ, НИИ и воинских частях.
Полную характеристику проведенных исследований
комиссией приводить не стоит, но некоторые характерные примеры из перечисленных
областей, по которым были выданы рекомендации, привести следует. Они дадут
общее представление об уровне поднятых и рассмотренных проблем и представят
определенный интерес для лиц интересующихся техникой.
Для любознательных привожу на фотографии схему мест
обнаруженных течей компонентов в топливном тракте на всех ракетах, потерявших
герметичность и замененных на боевом дежурстве, изготовленных на Оренбургском
заводе.
С целью
реализации разработанных рекомендаций были разработаны соответствующие планы
работ на предприятиях Минобщемаша и Минавиапрома, утверждены заместителями
министров этих министерств и неукоснительно выполнены. После реализации этих
мероприятий ни одной ракеты уже не потекло по причине каких-либо производственных
или иных причин. Но при этом нужно отметить, что все потекшие ракеты были
одного и того же завода-изготовителя. С одной стороны, это несколько
успокаивало тем, что показывало, что на этом заводе существовало какое-то
системное явление, приводившее к появлению в производстве и сдаче заказчику
негерметичных ракет. С другой стороны, оно же предопределяло наше повышенное
внимание к этому заводу. И вместе с тем, этот завод не согласился с заключением
комиссии о наличии производственных отступлений и не подписал итоговое заключение
комиссии. Но к чести Минобщемаша, из него мне было дано указание поставить
вторую мою подпись на заключении комиссии, на основании чего Госарбитраж
подтвердил решение комиссии и на завод был наложен значительный штраф. В итоге
завод лишился тринадцатой зарплаты и на год прекратил строительство жилья. Но
ко мне лично отношение тех людей на заводе, с кем мне пришлось тогда работать,
нисколько не ухудшилось. Более того, они сделали и подарили нам сувенир в виде
колокола для ведения заседаний. Он и сейчас хранится у меня на даче.
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СВАРКА
Осматривая в воинской части одну из ракет, потерявшую
герметичность, я обнаружил на ней очень большую концентрацию паров окислителя.
Умозрительно сравнив величину замеренной концентрации с величиной той течи,
которая могла бы привести к такой значительной загазованности я понял, что
такая большая течь не могла быть пропущена при контроле герметичности в
производстве. Правда, на одной из снятых ракет, мы столкнулись с прямо-таки
диким случаем. При дефектации на заводе уже слитой этой ракеты мы обнаружили,
что в одном месте в процессе изготовления была обнаружена микротечь. В соответствии
с техпроцессом она была разделана под заварку, но не заварена. И с такой
большой течью ракета была поставлена на боевое дежурство. А в технологическом
паспорте в цехе завода стояли подписи мастера и контролера, что дефект заварен.
Это был случай беспредельной халатности, но никого из сотрудников завода не
отдали под суд.
Но даже на этой ракете не было такой большой
загазованности как на той, о которой идет речь. Мне стало ясно, что мы
столкнулись с неординарной ситуацией, при которой течь появилась уже при
стоянии ракеты в шахте. При дефектации на заводе стало совсем очевидно, что
течь была разъедена окислителем. Такого у нас еще не встречалось, чтобы течь
разъедалась. Это всех озадачило. Нужно было выявить причину разъедания течи.
Обычно при дефектации ракет мы вырезаем участок с
течью, делаем разрез по микротечи и по микрошлифу под микроскопом устанавливаем
природу и характер образования микротечи. В данном случае я понимал, что такой
грубый метод не годится для квалификации характера течи. Нужен более
квалифицированный метод, такой как рентгеноспектральный, которого на заводе не
было. Нужно было вырезанную и нетронутую течь везти в Москву и там ее тщательно
обследовать. Но один член комиссии, полковник от Ракетных войск, категорически
возражал против этого, требуя, чтобы квалификация течи была произведена здесь
на месте и он мог бы поскорее предъявить штрафные санкции заводу. Я связался с
заместителем начальника Главного управления ракетных войск Иваном Липатовичем
Малаховым и объяснил ему суть дела, которую не хотел принимать во внимание их
полковник. Если мы здесь уничтожим течь, разрезав ее для микрошлифирования, то
можем упустить причину разъедания течи. С Малаховым, который был уже к тому
времени генерал-лейтенантом, еще до этого сложились хорошие отношения, он
доверял мне и в этот раз дал добро на свободу моих действий. Я перенес работу
комиссии в Москву и там с помощью одного из НИИ установили, что довольно
значительная по величине течь в нержавеющей стали, из которой был изготовлен
трубопровод с течью, была забита медью. А под воздействием окислителя медь
разъелась и образовалась громадная сквозная течь. Откуда медь попала в микротрещину
в металле оставалось неясным.
Из теории было известно, что при сварке аустенитных
сталей, к которым относится и данная нержавеющая сталь, при попадании меди в
разогретую околошовную зону, происходит мгновенное растрескивание основного
металла и медь, расплавившись, быстро заполняет трещину по всей ее высоте.
Растрескивание основного металла происходит за счет адсорбционного понижения
прочности. Это явление установил академик Ребиндер и оно получило имя «эффект
Ребиндера». Предстояло теперь выяснить откуда могла попадать медь в околошовную
зону при сварке. Этот случай настолько неординарный, а обнаруженная течь имела
столь удивительную форму, что ее увеличенный микрошлиф приведен на фото.
Нашим подкомиссиям, которые работали на заводах, я дал
задание выяснить этот вопрос. Они установили, что на серийных сварочных автоматах
державки для крепления сварочной проволоки содержат медные элементы для лучшего
их охлаждения. В некоторых случаях, при рассогласовании скорости подачи сварочной
проволоки и перемещения сварочной горелки, конец сварочной проволоки попадает
на медные элементы, в результате чего между ними проскакивает электрическая
дуга, медь расплавляясь выплескивается и попадает на разогретую околошовную
зону основного металла. А дальше происходит то, что уже было описано. Они на
многих автоматах нашли следы выплеска металла на медных элементах сварочных
головок.
По рекомендации нашей комиссии все сварочные автоматы
на всех серийных заводах Минобщемаша и Минавиапрома были доработаны. Помимо
этой весьма существенной рекомендации были и другие предложения по технологии
сварки, подготовке и хранению сварочной проволоки, автоматизации сварки и
другие. На основании их был доработан отраслевой стандарт на сварку.
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ
За два-три года до этих событий мы провели вместе с
Селиным исследования закономерностей истечения компонентов топлива через
микродефекты в сварных швах и установили эквиваленты между истечением
компонентов и контрольного газа при контроле герметичности в производстве. Для
этих исследований я предложил специальный имитатор течи в сварном шве и
технологию его изготовления, на что получил авторское свидетельство на изобретение.
На основе этих исследований я разработал метод расчета норм герметичности
топливного тракта. С его использованием мы установили повышенные нормы при
контроле герметичности в производстве. Для их реализации наша специально
созданная лаборатория во главе со Щасливым разработала соответствующие методы
контроля герметичности. Все это мы отразили в «Повышенных требованиях при
контроле герметичности» и разослали по серийным заводам. Там с пониманием
отнеслись к нашим требованиям, переоснастили средства контроля герметичности и
у них не было ни одной ракеты потерявшей герметичность. А на том заводе, о котором
я упоминал, как установила межведомственная комиссия, директор завода дал
команду запереть эти требования в сейф с тем, чтобы не задерживать производство
ракет из-за переоснащения средств контроля герметичности. В результате завод
потерял двенадцать ракет по причине их негерметичности.
После этого директору завода предложили уйти на
пенсию. Это был один из видных наших «красных директоров» до этого уже бывшим
Героем Социалистического труда и сделавшим много для отечественного самолето и
ракетостроения. Это о его заводе Хрущев говорил, что у него ракеты делаются как
блины, когда на этом заводе шли ракеты Янгеля самых первых разработок. Но вот
тут под давлением «плана» и гнетом руководящих указаний он не устоял, хотя
другие директора устояли. Но как говорится, «и на старуху бывает проруха». Нас
потом судьба вновь свела с этим директором уже после ухода его на пенсию и мы
много лет работали рядом у нас на предприятии, пока он окончательно не ушел на
пенсию в преклонном возрасте. У нас были хорошие деловые отношения. Он даже
пришел ко мне на банкет поздравить меня с защитой докторской диссертации. Но
мы, много раз встречаясь по делам, никогда не вспоминали то злосчастное для него
время.
Помимо этого, прямо-таки, трагического случая, было
выявлено и ряд других не менее неприятных вещей. Известно, что рентгеноконтроль
является первичным и одним из основных методов определения качества сварки и,
как следствие, контроля герметичности. Но оказалось, что в Центральном
технологическом институте отрасли нет даже лаборатории по рентгеноконтролю и
отсутствует ведомственный стандарт на рентгеноконтроль сварных швов. После
этого в институте была создана соответствующая лаборатория и выпущен отраслевой
стандарт на рентгеноконтроль с учетом наших рекомендаций.
Еще один неприятный случай состоял в том, что при
промывке топливных трактов для удаления технологических загрязнений осушка
внутренних полостей никак не регламентировалась. А наши исследования до этого
показали, что если просушить топливные тракты недостаточно, то влага, попадая в
микропоры и неудаленная из них, не позволяет контрольному газу проникать через
них и фиксировать наличие течи. После нашей комиссии был выпушен отраслевой
стандарт на осушку трактов после их промывки. Кроме этого было отмечено немало
отступлений и недостатков в технологии и оборудовании для контроля герметичности.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
В процессе работы межведомственной комиссии мы
разработали метод расчета и определили время «скрытого периода» эксплуатации,
как мы его определили, в течение которого все негерметичные ракеты будут выявлены.
Если за этот период ракета не потеряет герметичность, то она будет оставаться
герметичной неопределенно долгое время. Понимая значение герметичности и
осознавая степень ответственности за подобное заключение, мы выдвинули вместе с
тем предложение по развертыванию исследований и разработке методов ремонта ракет,
потерявших герметичность. Это предложение не нашло должного отклика. Но у себя
в отделе в течение ряда лет мы провели обширный комплекс исследований и
разработали систему различных видов и методов ремонта, на что получили около
десяти авторских свидетельств на изобретения. Мы отремонтировали только одну
снятую ракету и передали ее в учебный войсковой центр. Для штатных ракет, слава
богу, это не потребовалось. Наше первоначальное заключение было верное, а
прогноз оказался надежным и проделанная работа по ремонту оказалась платой за
страх.
Второе направление рекомендаций состояло в
необходимости расширения исследований по изучению закономерностей истечения компонентов
через микронеплотности в сварных швах. Мы провели исследования на 15—20 течах и
установили, что закономерность носит явно вероятностный характер и требует расширения
объема исследований. После этого у нас в производстве было изготовлено 623
имитатора течи и на них в НИИ было проведено массовое исследование, в
результате чего был разработан отраслевой стандарт по расчету норм герметичности.
Наш метод расчета норм герметичности, разработанный ранее, давал несколько
более жесткие нормы, что оказалось небесполезным.
И еще одно направление, включенное в рекомендации,
состояло в разработке более обоснованных требований к дистанционной системе
контроля загазованности ракет на боевом дежурстве. Фактически это была
дистанционная система контроля герметичности заправленных ракет на боевом дежурстве.
В результате этих работ были разработаны более надежные чувствительные элементы
для этой системы, существенно поднявшие эффективность всей системы.
Применительно к последующим ракетам была создана двухканальная система с
набором соответствующих датчиков. Первый канал давал сигнал о появлении факта
загазованности, а следовательно, и о потере герметичности ракетой. Второй канал
выдавал сигнал о потере работоспособности ракеты за счет коррозионных
процессов, возникающих на ракете от появления паров компонентов топлив.
Были и другие менее значительные рекомендации по
другим областям.
ДОКЛАДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КОМИССИИ
Технические результаты работы комиссии мною оперативно
докладывались заместителю министра общего машиностроения Хохлову Николаю
Дмитриевичу, который постоянно наблюдал за нашей работой и был все время в
курсе ее дел. По завершению работы комиссии и разработки наших рекомендаций, я
их доложил на расширенной коллегии Минобщемаша, на которую пригласили всех
необходимых главных конструкторов, директоров заводов и НИИ. Коллегия приняла
решение разработать Главному техническому управлению министерства план реализации
в отрасли рекомендаций и замечаний комиссии, что и было сделано с нашей
помощью. Этот план стал основой для планов, которые были разработаны на
предприятиях.
Затем я доложил заместителям министров Минавиапрома и
Минхимпрома, а также в Военно-промышленную комиссию (ВПК) в Кремле. В этих
учреждениях от меня не требовали письменных докладов. При докладе в ЦК КПСС
дело обстояло иначе, где я доложил одному из сотрудников оборонного отдела. Я
докладывал не менее получаса, а вся беседа с вопросами заняла около часа.
Выслушав и задав несколько вопросов он сообщает мне: «Ну, а теперь давайте
напишем доклад в ЦК КПСС о результатах работы вашей комиссии». Берет лист
бумаги и начинает молча писать сам, не задав мне ни одного вопроса. Когда он писал,
я сидел молча и думал глядя на него: «Ну, что может написать неспециалист по
такому сложному вопросу, касающемуся весьма специфической техники, выслушав за
полчаса доклад специалиста?» Он закончил писать и дал мне прочитать, спросив
так ли и о том ли он написал. Текст был всего на одной страничке без упоминания
адресата, а просто — «В ЦК КПСС» и все. Прочитав текст, я опешил. Я был поражен.
С каким мастерством и знанием дела был изложен материал. На одной странице он
уместил все то, что я наговорил за полчаса, и сказано было все и обо всем. Я
пролепетал, что все правильно и он, поблагодарив, отпустил меня.
Неоднократно встречаясь с так называемыми рядовыми
сотрудниками отделов ЦК КПСС и ВПК я видел, что это высокообразованные люди,
широко эрудированные и прекрасных человеческих качеств. Но, чтобы их
квалификация была столь высокого уровня, я не ожидал. Даже на рядовую работу в
эти учреждения видно пустышек не брали. Высокопоставленных пустышек держали
вдали от тех мест, где нужно работать, а сама работа является весьма важной и
определяющей. Здесь уже держали высокопрофессиональных людей. Чтобы попасть
туда, номенклатурную протекцию конечно, нужно было иметь. Но этого было еще
недостаточно. Нужно было иметь еще и голову на плечах. Иначе протекала беседа с
представителем КГБ. Их тоже интересовали результаты работы нашей комиссии,
особенно условия работы на том заводе, ракеты которого потекли. Я усиленно
нажимал на то, что там были технические упущения и злого умысла не было. В
конце беседы он предложил написать все то, что я сказал в разговоре с ним. Я
сразу же ответил вопросом, как в Одессе: «У нас, что, разговор с протоколом?
Если да, то не я должен его писать». И далее я сообщил ему, что после моего
доклада в ЦК КПСС там сами написали докладную записку. Если КГБ нужны
какие-либо материалы комиссии, то по запросу от вас наше министерство направит
любые нужные материалы. Ему просто нужен был, очевидно, донос. Или он сам был
не способен все описать что-либо из того, что услышал от меня, а руководству
ему нужно было что-то доложить.
ЧЕЛОМЕЙ И КОМИССИЯ
В процессе написания отчета комиссии я получил
указание от Челомея о том, что прежде чем его отправлять куда-либо нужно будет
ознакомить с ним Челомея. Если Хохлов постоянно был в курсе дел комиссии, то
Челомей вел себя так, как будто ее вовсе не существовало. Он, очевидно,
умышленно дистанцировался от нее и это было, наверное, правильно, поскольку
расследовались обстоятельства, связанные с его ракетой и он демонстрировал отсутствие
его давления на работу комиссии. Но это было только внешне. Это были только
цветочки, а ягодки были впереди, о которых я и не предполагал.
Челомей читал наш отчет запоем весь день, никого не
принимая, и еще на вечер прихватил его домой. На следующий день я предстал пред
ним и получил отчет весь испещренный его пометками, подчеркиваниями, вопросительными
и восклицательными знаками и всякими репликами. Он попросил внимательно проработать
его вопросы и по каждому из них дать подробное письменное разъяснение, а затем
он их обсудит со мной. После этого он сделает окончательное заключение по
материалам отчета, а также по имеющимся в нем выводам и заключению.
Мои ответы составили 37 страниц машинописного теста.
Меня удивила направленность его вопросов. Подавляющее большинство из них
останавливалось на негативных сторонах конструкции или техпроцессов,
отмечавшихся так или иначе по ходу изложения материала. И именно на них он
подробно и подолгу останавливался. Мне казалось странным, что он усердно ищет
теневые стороны в своем детище вместо того, чтобы высвечивать положительные
стороны и доказывать, что созданная им ракета является самой совершенной, что
было бы не так и далеко от истины. Но все было наоборот. Кое-что для меня
начало проясняться, когда он начал подводить итоги при обсуждении.
Похвалив отчет и отметив большую работу проделанную
комиссией, он сказал, что с выводами и рекомендациями он согласен, а вот заключение
сделано смелое о том, что ракеты надежны, герметичность их обеспечена и они
могут эксплуатироваться дальше. Здесь он рекомендует быть поосторожней и
заявить, что их можно держать на боевом дежурстве не более пяти лет, а потом
заменить на новые ракеты еще более совершенные и еще более надежные. Это было
для меня странным. Все эти годы мы жили под действием необходимости установления
семилетнего срока, а потом и
десятилетнего срока. Это всегда ставилось как важнейшая задача. А сейчас прошло
только четыре года эксплуатации и мне предлагают первым произнести крамольную
мысль, что правительственное задание об установлении семилетнего срока не
выполнено и все, что было сделано для этого, оказалось негодным. И все это
нужно было выдать за благо. Это было для меня ново и неожиданно.
Челомей попросил обсудить это на комиссии. Конечно,
такое заключение не прошло и не было поддержано комиссией, о чем я ему доложил.
Это вызвало у него легкое сожаление и он не стал настаивать на своем. Но
вскоре, когда я походил по коридорам высшей власти со своими докладами-отчетами
о работе комиссии, из разговоров со многими сотрудниками мне стала ясна
ситуация, складывающаяся в высших эшелонах власти по отношению к нашим ракетам.
Начались вторые «великие ракетные дебаты» и я ждал изменения отношения не
только Челомея к нашим заключениям, которое вскоре и проявилось. Тогда Челомей
довольно спокойно отнесся к моему отказу об установлении пятилетнего срока
эксплуатации, очевидно потому, что и сам еще не был полностью вовлечен в
горнило этих «дебатов». Но события развивались стремительно.
ВТОРЫЕ «ВЕЛИКИЕ РАКЕТНЫЕ ДЕБАТЫ»
Наши
ракеты УР-100, составлявшие основу
ядерного щита страны, в общем успешно несли боевое дежурство и наша комиссия
подтвердила их надежность. Но оказалось, что не все ожидали таких результатов
комиссии. Еще до образования этой комиссии в высших сферах военно-политического
руководства развернулась борьба двух сложившихся групп по вопросу дальнейшей
стратегии технического совершенствования ракет стратегического назначения
шахтного базирования.
Одна группа считала, что стоящие на боевом дежурстве
ракеты УР-100 являются надежными на достаточно продолжительное время и их
менять не следует. Нужно только, не вынимая ракет из шахт, несколько доработать
систему управления, заменив некоторые блоки, и это еще больше повысит точность
ее попадания в цель. Этим самым стране будут сохранены большие средства. Данную
группу возглавляли секретарь ЦК КПСС Устинов Д. Ф. и заместитель Председателя
СМ СССР, председатель ВПК Смирнов Л. В.
Вторая группа считала, что в США идет полным ходом
разработка новой ракеты «Минитмен-III» с
разделяющимися головными частями и нам срочно нужно разрабатывать новую
адекватную ракету и менять парк ракет. Эту группу возглавили министр обороны
Гречко А. А. и министр общего машиностроения Афанасьев С. А.
Как правило, споры в высших сферах на
технико-политические темы обязательно переносятся в низы, где формируются
«армии» той и другой стороны. Первая группа за техническую опору взяла Бугайского.
Он вопреки Челомею разработал модификацию УР-100 по первому варианту и она была
запущена в реализацию.
Вторая группа взяла за техническую опору Челомея и тот
разработал новую, более совершенную ракету на базе УР-100. Когда Бугайский был
в отпуске, и его замещал Нодельман, так он по указанию Челомея организовал
выпуск рабочей конструкторской документации на эту ракету, которая и была
запущена в производство безо всякого постановления правительства.
Не трудно догадаться, что вслед за тем, как Бугайский
и Челомей оказались в разных противостоящих лагерях, вся наша организация тоже
разбилась на два лагеря, поскольку эти два руководителя также должны были опираться
каждый на свою «армию». В течение ряда лет нашу организацию раздирали склоки,
конфликты и всевозможные разбирательства, поскольку в низах технические споры
переросли в личностные противостояния со всеми вытекающими из этого последствиями.
В итоге Челомей и Бугайский стали заклятыми врагами. Челомей не оставил своих
мемуаров, поскольку скончался неожиданно в 1984 году. Бугайский успел издать
свои мемуары, которые меня весьма поразили.
Во-первых он никогда не был главным конструктором,
а всегда был замом. А во-вторых он ведь понимал, что он был исполнителем в «делах
больших людей» и так облить грязью Челомея в своих мемуарах — это непорядочно.
Челомей и мне «залил сала на шкуру» немало, но я не позволю так писать о нем.
Это не делает чести Бугайскому.
Судите сами. Вот только немногое из того, что он пишет
о Челомее. «…Наряду с достоинствами, при близком знакомстве с ним, открывались
такие его качества как наглость, беспринципность, аморальность и безграничная
подлость. У него не было элементарного
уважения к людям и это проявлялось в каждом его действии. Большой мастер
интриги, он не мог жить без интриг. Ему доставляло удовольствие стравить между
собой различных людей. Ко всему прочему он был болезненно жадным человеком».
И это пишет человек, которого Челомей «подобрал»,
после того как Бугайскому пришлось уйти из КБ Ильюшина из-за бытовых дел, или
как он пишет «по семейным неурядицам». Такое, как он написал о Челомее, можно
написать и подобрать факты о любом, в том числе и самом Бугайском.
Аппаратные игры и подковерная борьба, которые тогда
протекали, имели свои законы. Основным из них был тот, что борьба на верхних
уровнях велась «на уничтожение» и все, кто в ней участвовал, должны быть лютыми
врагами и не щадить друг друга ни в чем. Кто вел борьбу «понарошку» тот сам
вылетал из обоймы. Так, что поведение этих людей можно понять. Но уже на склоне
лет, когда борьба закончилась и можно спокойно оглянуться, нельзя оставаться
так ожесточенным до конца дней своих. Лично я по роду своей служебной
деятельности и уровню занимаемого служебного положения явно не входил ни в ту
ни в другую группу. По техническим соображениям я разделял позицию второй
группы, а по человеческим качествам ее участников симпатизировал первой группе.
Но мне не приходилось и передо мной не возникало необходимости публично
проявлять свое отношение к этим группам и предметам их противостояния. Это
длилось до тех пор, пока я не стал заниматься делами межведомственной комиссии.
Когда ракеты УР-100 начали течь и была образована
межведомственная комиссия, эти споры достигли пика в своем развитии. И я, когда
начал ею заниматься, даже не предполагал, что ее работу начнут использовать борющиеся
стороны в своих целях. Я понимал цену объективного установления причин
негерметичности ракет и прогноза по их дальнейшему состоянию. Ведь вопрос
касался «святая-святых» — основы ядерного щита страны.
Но высшее руководство, выслушав и ознакомившись с
моими докладами и результатами работы комиссии, решило использовать ее для
своих целей. Они успокоились по поводу качества состояния ракет и началась
политическая игра вокруг этого. В основу ее была положена необходимость
доказательства как раз противополож-ного — ненадежности ракет. И это решили
сделать моими руками.
Для меня было странным, почему в этой схватке на
первый план выдвигается якобы техническая ненадежность стоящих на дежурстве
ракет УР-100, в то время когда ясно, что эти ракеты вскоре не будут соответствовать
необходимому техническому уровню и не смогут противостоять ракете США
«Минитмен-III». Вопрос состоит в том — будет
ли наш ядерный щит «картонным» или на каждый отрезок времени он будет современным
и высокоэффективным. При «картонном» щите у потенциального противника может
возникнуть большое желание испробовать его «на прочность».
Все это я как-то изложил Челомею, у нас еще
сохранялись нормальные отношения, и он предложил мне все это изложить в виде
письма в ЦК КПСС от его имени. Я написал такое письмо, долго мучаясь и памятуя
опыт написания аналогичной записки в ЦК КПСС по моему докладу, уложившись в
полторы странички печатного теста. Я не знаю отправлял ли он это письмо, но
последующие развернувшиеся события показали, что такой ход мысли и аргументации
не устраивал высшее руководство и курс на доказательство ненадежности ракет
УР-100 продолжал углубляться и он ложился в обоснование необходимости замены
парка ракет.
ПРИГЛАШЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
Мне сообщили, что Челомея пригласили в МО прибыть
вместе со мной с докладом о работе моей комиссии к первому заместителю министра
обороны по вооружению Алексееву Н. Н. Везде с докладами я ездил один, даже в ЦК
КПСС, а тут и Генерального конструктора вызвали на ковер.
Нас пригласили к пяти часам, но мы задержались на
полчаса, пока Челомею собирали презент, который потом, как оказалось, он вручил
Алексееву. По приезде нас не приняли и попросили подождать. Минут через сорок к
нам вышел Алексеев и начал с извинений в том, что нам назначено было на 5
часов, а мы задержались и он был вынужден занять время с вьетнамцами. Ведь у
них идет война и им нужно вооружение. Но я не видел куда делись въетнамцы,
поскольку через приемную они не выходили. Тут наступила очередь извиняться
Челомею. Так взаимно извиняясь мы вошли в кабинет.
Мне говорили, что это бывший кабинет Тухачевского,
когда он занимал эту же должность, и я был немало удивлен его простотой и непритязательностью
да к тому же и весьма небольшому по размерам не то, что у наших Генеральных
конструкторов. К слову сказать, у высших руководителей и в отделах их
учреждений, включая и ЦК, кабинеты также непритязательны и маленькие по
размерам, а ведущие специалисты, у которых толпятся директора заводов и НИИ,
сидят по несколько человек в одной комнатке. Там не допускали показную роскошь
и блюли скромность в производственном быту.
После моего представления и обмена общими фразами
Алексеев попросил меня доложить о работе и результатах комиссии. Мне это не
трудно было сделать. Я уже натренировался и отработал доклад во всех предыдущих
инстанциях. Вскоре меня перебивает Челомей и подводит к мысли о том, что
ракета-то, в общем, ненадежная. Закончив свою реплику, он предложил мне
продолжить доклад. Я, как будто не слышал реплики, продолжаю с того, на чем
остановился. Челомей меня вторично перебивает и вставляет очередную реплику
того же смысла. Я опять продолжаю доклад и на этот раз будто не слышал и эту
реплику. Не мог же я докладывать в разных организациях по разному, тем более,
что в ЦК КПСС уже была доложена официально иная, реальная точка зрения, сложившаяся
в комиссии.
Алексеев посматривал на наше состязательство, но
помалкивал и никак на это не реагировал. По окончании доклада он спросил — поддерживаю
ли я контакт с Главным ракетным управление Минобороны. Я ответил, что их представители
входили в состав комиссии и это общая точка зрения, а контакты никогда не
прерывались. Получив такой ответ он поблагодарил за доклад, не выразив никакого
отношения к услышанному, и отпустил нас. Челомей ненадолго еще задержался в кабинете
и вручил презент. После этого мы уехали.
В машине мы ехали молча, не проронив ни слова друг
другу, будто ничего и не произошло. Единственное, что произнес Челомей и то не
ко мне, а к шоферу, чтобы он отвез меня домой. Сидя в машине, я осмысливал и сопоставлял
наш разговор с Челомеем в машине, когда ехали в министерство, с ходом моего
нынешнего доклада и с глубокомысленным молчанием сейчас. Я пытался представить
пути развития дальнейших событий, которые несомненно должны последовать. Они
мне представлялись далеко не радужными.
Когда мы ехали в министерство, Челомей уговаривал меня
заявить, что ракеты держать на дежурстве более 5 лет нельзя. Я возражал, что у
меня нет никаких данных по фактическому состоянию ракет для такого заявления. Тогда
он пошел на крайнюю меру. Он заявил, что я не представляю себе, что будет, если
ракеты начнут массово течь. Новых ракет для замены нет и производство их
свернуто. Ну, с него снимут звание академика и лишат всех наград. «Но ведь
ампулизацию ракеты мы делали по вашим рекомендациям!» — это был его последний
аргумент, которым он уже прямо намекал, что мне тогда будет грозить «высшая
мера». На это я ему ответил: «Если не дай бог это случится, то каждый ответит в
меру своих служебных обязанностей».
После такого ответа он надолго замолчал и повторил
свою атаку уже во время доклада. Но я и там не проявил «благоразумия». Так, что
свое будущее я видел в тумане. Было до боли обидно. Проделать такую большую и
полезную работу, которую выполнила комиссия, и не только не получить хоть
какую-то благодарность, но и подвергнуться такому массированному давлению
поступиться своей совестью. Действительно зло меры не знает ни в благодарностях,
ни в наказаниях.
ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА
Несколько дней меня никто не беспокоил. Но вскоре меня
опять вызвали к Челомею в Реутово. Я просидел в приемной с обеда и до вечера.
Когда все уже ушли я был вызван к Челомею. В КБ оставались только два его зама
из Филей — Дьяченко и Полухин, которые активно его поддерживали.
Челомей
встретил меня, стоя посреди кабинета, с полуязвительно-полудружелюбной улыбкой,
заложив руки за спину. Выдержав паузу, не подавая руки, спросил, растягивая
слова: «Ну, так что будем делать дальше?!» Не дожидаясь ответа и спрятав
улыбку, он повернулся, прошелся к своему столу, вернулся опять ко мне и, встав почти
вплотную, глядя мне в глаза, сосредоточенно начал: «Я обращаюсь к вам по поручению
двух министров. Нужно написать на 10—12 страницах научное обоснование о
невозможности дальнейшей эксплуатации наших ракет. Через три недели на
основании этого научного доклада вам будет присуждена ученая степень доктора
технических наук. Наш министр внимательно следит за вашей деятельностью и от
качества вашего доклада будет много зависеть и для вас лично».
Я многого ожидал, коротая время в приемной, но такого
оборота даже не мог себе представить. Я на некоторое время даже оторопел и не
сразу сообразил о необходимости его поблагодарить за «столь лестное
предложение». Я ожидал выволочку за доклад у Алексеева. Но он даже не вспомнил
о том эпизоде. Придя в себя, я вежливо отказался, ссылаясь на то, что у меня
нет ни научных, ни практических данных для составления такого доклада. Что тут
начало твориться после этого?!
Ни до ни
после я никогда не видел его таким разъяренным. Он потерял контроль над собой
и, бегая по кабинету, так кричал на меня, что мне казалось — еще немного и он
сорвет голосовые связки. Он немилосердно бранился, всячески меня обзывая и
доказывая мою сумасбродность. Затем начал кричать, что он меня уволит так, что
меня не примут ни в одном министерстве оборонной промышленности. Высшую меру
своего негодования он вложил в заявление о том, что я создал лженауку и он ей
не верит ни на грош и начал ее топтать. Он знал мои опубликованные в закрытой
печати работы хорошо. Однажды мне позвонили из Реутово и по-дружески попросили
их выручить. Челомей попросил их собрать все мои статьи, а они не знают, где и
что опубликовано. Я конечно помог и теперь Челомей использовал свое знание во
всю. Я слушал этот истеричный крик молча. Причем, следует отметить, что за все
время он ни разу не употребил ни одного матерного слова. Он был, конечно,
интеллигент высшего класса.
Когда он начал топтать «мою науку» я не выдержал и на
высоких тонах почти также прокричал со злостью: «Ведь вы ученый, вы же понимаете
— как можно, что-либо утверждать при полном отсутствии каких-либо подтверждающих
фактов» Это произвело на него эффект как на коня, которого осадили на всем
скаку. Он резко остановился, повернулся в пол-оборота ко мне и с ожиданием в
голосе, спросил: «А что вы можете сейчас утверждать при наличии имеющихся
фактов?». Это прозвучало как призыв к примирению.
Я еще до этого мучительно искал выход для себя в том,
что мне нужно было найти какую-то формулу, которая хоть как-то могла ими быть
использована и в то же время не поступиться своей совестью. Я такую формулу нашел
и, когда он меня спросил, я тут же ее огласил ему: «Максимум, что я могу
сказать так это то, что мы не можем точно утверждать сколько времени ракеты
могут простоять на дежурстве». Он аж подпрыгнул, поворачиваясь ко мне, и сразу же почти спокойно, предложил
мне это написать и подписаться. Прочитав, он остался доволен содержанием
текста, уместившегося на полстранички. После отпечатывания я подписал это
заключение и сказал, что какой-то несолидный документ получился с одной подписью
начальника отдела. Он тут же вызвал Дьяченко и Полухина и попросил их тоже
подписать этот документ. После этого я сказал, что документ стал еще более
тенденциозен — заместители Генерального конструктора подписались под
начальником отдела. Челомей отмахнулся и стал перечитывать документ.
Домой меня отвозил на своей служебной машине Полухин.
В машине после некоторой паузы он мне сказал: «Ну теперь, Женя, тебе всю оставшуюся
жизнь придется писать незначительные инструкции и заниматься всякими никчемными
делами. Серьезной работы тебе уже больше не поручат». Они сидели все это время
в приемной и через дверь слышали весь этот концерт в кабинете Челомея. Во
многом он оказался прав и, более того, заняв место Челомея после его смерти, во
многом сам этому способствовал. Это прекрасно я понимал и сам. Таких упрямцев,
каким оказался я, в номенклатурную обойму не брали.
На следующий день из Реутово нарочным мне привезли
вновь отпечатанный вчерашний документ с уже расставленными подписями в соответствии
со служебной субординацией. Я, конечно, его подписал и думал, что на этом все
кончилось и они от меня отстанут.
Вечером я поехал в ВПК в Кремль и рассказал все, что
произошло и о составленном документе. В итоге они мне посоветовали вести себя
поосторожней потому, что Челомей действительно может уволить и они не смогут
ничем мне помочь. Это было одно из моих последних посещений ВПК, которые
прервались почти на десять лет. Но, правда, спустя пару лет после этих событий
они мне все-таки помогли получить право вступить в кооператив и тем самым
купить кооперативную квартиру, поскольку мне на производстве дали
малогабаритную квартиру, а в середине 70-х годов мне нужно было забирать к себе
престарелую мать.
СОВЕТ ГЛАВНЫХ КОНСТРУКТОРОВ
Обращение Челомея ко мне с несуразным предложением о
написании лженаучного доклада свидетельствовало о том, что «наверху» идет
затяжная борьба во «вторых ракетных дебатах». Получив от меня, если не доклад,
то хоть это куцее заключение, он, очевидно, полагал, что хоть как-то выполнил
полученное задание. Но, по всей видимости, это заключение не устроило верхи, и
вскоре был созван Совет главных конструкторов, разработавших агрегаты и
системы, входившие в состав ракеты. Повестка дня состояла только из одного
вопроса по обсуждению результатов работы межведомственной комиссии с моим докладом.
Мой доклад ничем не отличался от прежде делавшихся
мною докладов с той лишь разницей, что в заключение я ввел содержание ранее составленного
документа. Мой доклад главные конструктора слышали еще ранее на расширенной коллегии
министерства. На этом совете Челомей настаивал в своем выступлении на том,
чтобы главные конструктора согласились с тем, чтобы в решении Совета главных
конструкторов было записано о том, что ракеты более чем 5 лет держать на дежурстве
нельзя. Против этого активно выступил главный конструктор двигателей Конопатов
Алексей Дмитриевич, который возглавил оппозицию Челомею. Конопатов возражал и
против моего нового дополнения в заключении. После дискуссии согласились включить
в заключение в решении совета мое дополнение без указания конкретного срока 5
лет. Главные оценили мое «соглашательство» и, чтобы самим выйти из труднейшего
положения, в которое и они были поставлены, они воспользовались моей «находкой»
и присоединились к ней.
После заседания я написал решение совета, оно было
отпечатано и подписано главными конструкторами. Совет проходил в Реутово, а к
нам на Фили это решение не поступило и я его не видел после подписания.
Через некоторое время мне звонят из Главного ракетного
управления и задают какой-то безобидный вопрос по этому решению. Я ответил, что
его у нас нет и не могу ничего сказать. Тогда они любезно приглашают меня к
себе посмотреть это решение и поговорить по нему. Для меня это было странным.
Ведь их представитель участвовал в работе совета и был в курсе его хода и
обсуждений на нем.
Прочитав решение, я был поражен. После моих слов о
невозможности утверждения о конкретных сроках продолжительности эксплуатации
ракет была дополнена фраза, из которой вытекало, что ракеты нужно снимать с
эксплуатации чуть ли ни немедленно и заменять на новые. Этого ведь не было,
когда подписывался документ. Читая его теперь я обратил внимание, что
предпоследний лист с этой фразой был заменен после подписания. Торопясь при перепечатывании,
на нем забыли напечатать внизу регистрационный номер, как это всегда делается
на секретных документах. Военные, как-будто не замечая этого, обсуждали данную
фразу, даже не делая намека, что ее раньше не было. Молчал и я по этому поводу
так же, как и об отсутствии регистрационного номера на этом листе. Выйдя от
них, я понял, что меня подставляют. Они будучи «под командой» своего министра,
в интересах которого и был совершен подлог, не могли открыто выступить, но
решили «высунуть» меня.
По дороге обратно я долго размышлял как поступить.
Первое желание было поехать в Кремль и все рассказать. Но возникло сомнение,
что я их поставлю в трудное положение. Они ведь не могут заявить о фальсификации,
поскольку от них никого на совете не было. Это должен делать я, но не
заявлением в ВПК, а в КГБ и пусть они уже расследуют это дело. Уже перед самой
Лубянкой я повернул обратно. Мне трудно было предвидеть как это отразится на
мне лично, а поскольку, в принципе, я считал, что ракеты все равно нужно менять
из-за их морального износа, то какая раз- ница — как будет обосновываться эта замена.
Честно я писал о своей позиции. А если она не возымела воздействия, то ложь
пусть останется на совести тех, кто пошел на обман. Здесь ложь была во благо,
на что я не мог пойти, когда мне предлагало такое высокое руководство.
И замена вскоре началась после смерти Гречко, когда
его место занял Устинов. Этот принципиальный борец за сохранение народных
средств и сдерживание дальнейшего ракетного перевооружения, как только сел в
кресло министра обороны так развернул такое ракетное перевооружение, о котором
покойный Гречко и мечтать не смел.
Устинов многое сделал для обороны страны, став одним
из самых молодых сталинских министров. Всю войну он был наркомом вооружения и
все достижения этой отрасли в войну были связаны с его именем. Мое отношение к
нему начало меняться в конце 60-х годов.
За разработку и сдачу на вооружение нашей ракеты
УР-100 были представлены к награждению более тысячи специалистов десятков организаций
по всей стране. Но акт награждения задержался почти на два года. Ходили слухи,
список награжденных держит у себя Устинов как последняя инстанция, представляя
собой ЦК КПСС. Он ждал, когда истекут три года между очередными награждениями,
которые у него еще не истекли. Я мало верил этому. Мне казалось это просто
отместка Челомею в их противостоянии. Что все равно не делало ему чести, поскольку
он позволил себе пренебрежительно отнестись к тысячам людей ради удовлетворения
своих амбиций.
Но после смерти Устинова я поверил этому. Из некролога
я узнал, что он был награжден одиннадцатью орденами и все они были только
орденами Ленина. Он «брал» только ими. Это беспрецедентное явление в советской
истории. Мы виним Брежнева за его страсть к наградам. Но как видно, этим был
грешен в верхах не только он один. Честолюбие было одним из основных движущих
факторов для наших верхов того времени.
Так закончились вторые «великие ракетные дебаты» и мое
бесславное участие в них. Через некоторое время у меня от нервного перенапряжения
обострилась старая моя еще со студенческих лет язвенная болезнь и в министерстве
некоторые доброхоты решили меня отправить в Карловы Вары. Но мой «закадычный
друг» Левицкий не согласился дать заключение, что я не располагаю сведениями
особой важности, и меня одного за границу не выпустили. Тогда мне дали путевку
в санаторий в Железноводск «Дубовая роща» от 4-го управления Минздрава. Это
правительственный санаторий. Перед моим приездом только уехал Косыгин,
проигравший накануне часы в бильярд заведующей этого зала. А при мне отдыхали
Булганин и Полянский. Но мы их никто не видел. Им и питание подавали в их люкс.
Так, что в награду за понесенные мною «жертвы» в этой баталии, я удостоился
чести лицезреть, как отдыхают наши небожители. Ничего особенного я не увидел.
Это был в общем нормальный санаторий новой постройки, каких было уже немало по
стране. Единственное было отличие, что санаторий имел туристические домики. Тоже
не бог весть какие, разбросанные по всему Северному Кавказу, куда отдыхавшие
выезжали на пару дней на экскурсии. Для меня это был финал всей моей
долгохранительной эпопеи. К ней я вернулся только через пятнадцать лет, когда
Полухин стал у нас вместо Бугайского и предложил мне написать докторскую диссертацию
по этой теме. До этого я и не помышлял об этом. Но, написав ее, я все равно
долго не мог ее защитить, поскольку Челомей глухо противостоял этому.
НЕСОСТОЯВШАЯСЯ КОМИССИЯ
К тому времени, когда заканчивалась работа нашей
комиссии, у наших коллег из «Днепра» встали на боевое дежурство уже в
достаточном количестве их тяжелые стратегические ракеты. И сразу же в действии
проявился закон больших чисел. Их ракеты тоже начали течь.
Об этой ракете я уже писал, как я знакомился у них с
ее проектом. Ее топливный тракт был выполнен на разъемных соединениях с уплотнениями
и для меня ясно было еще тогда, что ракета такой конструкции будет течь, и я
говорил тогда ее разработчикам об этом. Ведь об этом говорил и печальный для
американцев опыт ракет «Титан». Но амбиции у днепропетровцев взяли верх и
несколько сот ракет было поставлено на боевое дежурство. А потом, естественно,
они начали течь.
Мне предложили в министерстве возглавить комиссию в
том же составе и с теми же целями, что и по ракете УР-100, но уже по днепропетровской
ракете. Причины мне были ясны и без комиссии. Если на ракете УР-100 причинами
всех течей являлись пропущенные и неустраненные производственные дефекты, то в
этой ракете был неустранимый конструктивный недостаток и все ракеты должны быть
заменены на вновь разработанную ракету с принципами ампулизации, разработанными
и примененными на ракете УР-100.
Я все это изложил в министерстве и сказал, что вывод
комиссии может быть только такой. Это их очень напугало и они отказались от своего
предложения мне возглавить комиссию. И в состав ее я не вошел, поскольку это
мне было совсем ни к чему. Воевать с разработчиками ракеты мне удовольствия не
представляло. К тому же я уже знал мнение министерства по этому поводу.
Созданная комиссия, в основном из днепропетровцев,
сделала заключение, что нужно совершенствовать технологию изготовления и конструкцию
разъемных соединений, а для стоящих ракет на дежурстве разработать методы
локализации течей. Я писал, что мы много также занимались методами ремонта
текущих ракет. В их основе лежала разработка методов локализации мест течей,
поскольку устранить на ракете уже появившуюся течь не представляется возможным.
Мы остановились на установке вокруг течи замкнутого
изолированного объема, внутри которого располагали специально разработанные по
нашему заданию в Академии химзащиты специальные угольные сорбенты. Они располагались
так, чтобы не касаться места течи, и те самым не создавали повышенной коррозионной
среды на металле в месте течи и не разъедали бы течь еще больше. Количество
сорбента закладывалось столько, чтобы его хватило на весь срок эксплуатации. В
этом случае истекающие пары компонентов топлива из течи поглощаются сорбентами
в этом объеме и не распространяются по всей ракете. С помощью такого бандажа мы
отремонтировали первую потекшую нашу ракету в Фаустово и она простояла с этим
бандажом более 15 лет. Течь к этому времени заросла продуктами коррозии. На
этот способ и устройство мы получили авторские свидетельства на изобретение,
но, слава богу, нам больше нигде его не пришлось применять.
Днепропетровцы пошли по пути использования угольной
ткани для поглощения выделяющихся паров компонентов из течи. Этой тканью они
обматывали текущее соединение и это помогало на некоторое время. Затем течи увеличивались
по указанной причине. Войскам надоело постоянно возиться с этими «тряпками» и
уже безо всяких комиссий было принято решение о замене всех этих ракет на вновь
разработанную, как я и предлагал в самом начале этой эпопеи.
Такую
ракету в «Днепре» разработали, но в конструкции пошли дальше нас. Пусковой
контейнер они разработали из стеклопластика, который был более
предпочтительнее, на что у нас в свое время Челомей не решился, хотя и
рассматривал такое предложение, представленное мною. Тогда он отказался от этой
идеи потому, что еще не было создано производство для изготовления таких
агрегатов из композитов. Для изготовления таких контейнеров было создано
специальное производство в Сафоново, которое мы в 80-х годах использовали для
изготовления обтекателей из стеклопластиков.
После отработки новой цельносварной ракеты,
днепропетровцы заменили все свои амбициозные ракеты на эту новую ракету, чем
ввели государство в значительные расходы. Вот это я и имел в виду, когда писал
о первых «ракетных дебатах» о том, что это было благо для государства, когда
Челомей отобрал у Янгеля малую ракету и создал свою УР-100. А если бы и эту
ракету делали в «Днепре», то пришлось бы менять не пару-другую сотню тяжелых
ракет, а весь тысячный парк малых ракет. Это главная заслуга Челомея и Филей, в
частности.
А тогда после разработки цельносварной ракеты в
«Днепре» получили за нее так же, как и за первую, худую, Ленинскую премию и всякие
награды и в количествах значительно превосходящих те, которые получили за разработку
УР-100, которая явилась новым словом в ракетостроении и стала классическим
конструктивным решением, которое, к сожалению, еще не вошло в учебники.
За последнее время в технической литературе стали
появляться краткие сведения о ней. Михаил Первов дал некоторые данные об этой ракете
в своей книге «Межконтинентальные баллистические ракеты СССР и России», а в
статье «Межконтинентальная ракета УР-100» в журнале «Авиация и космонавтика» №
4 за 1999 год дал уже и ее, правда весьма упрощенную, картинку.
Первов не принимал участия в создании этой ракеты и
его незачем упрекать. А вот те, кто ее создавал, должны дать описание уже детальное
и не только ее конструкции, а всего того нового, что сопутствовало при ее создании
в узлах и агрегатах, технологии, материаловедении и эксплуатации.
ПОСТКОМИССИОННАЯ ЖИЗНЬ
После завершения комиссионного периода, по отношению
ко мне стало сбываться предвидение, высказанное Полухиным, когда он увозил меня
от Челомея из Реутово. Началась организация съема ракет с эксплуатации для проведения
их дефектации с тем, чтобы определить их фактическое состояние и прогнозировать
сроки сохранения их эксплуатационной пригодности. На их место устанавливали
новые ракеты из запасников.
Для этой
работы создавалось специальное подразделение, но уже не в моем отделе. Казалось
бы, если мы устанавливали сроки службы, то сам бог велел нам же и заняться их
подтверждением. Но нас попросили разработать только методические указания по
проведению дефектации и установить, что и как смотреть. А от участия в самой
дефектации нас отстранили так же, как и от анализа и обобщения получаемых
результатов. Правда потом, через некоторое время, мне начали давать на подпись
итоговые отчеты по дефектации снятых ракет.
Состояние ракет после 5-ти лет стояния на дежурстве,
когда началась дефектация, и через почти 20 лет, когда она закончилась для некоторых
ракет, было такое как-будто ракета только что вышла с завода. Когда вскрывали
контейнер, где находится ракета, так там даже запах заводской краски сохранился.
Полностью сбылось мое предсказание о том, что ракеты
будут стоять на дежурстве неограниченно долго, поскольку мы им создали такие
условия, которые на земле имеют только места, где находятся мумии. Эту мысль я
как-то высказал Челомею еще до нашего противостояния, так он даже записал ее,
отметив, что я иногда выражаюсь весьма афористично. Однажды, запомнилось, он
еще записал одну мою сентенцию, но уже при Карраске: «ракета должна
характеризоваться не только сроком службы, но способностью подвергаться
модификации на боевом дежурстве с тем, чтобы она всегда отвечала тому уровню техники
и науки, которые будут существовать на каждом конкретном историческом отрезке
времени».
В то, последующее десятилетие я практически перестал
заниматься длительным хранением по двум причинам. Главное состояло в том, что
дело было сделано. Мы разработали комплекс мероприятий, о которых я писал. Он
был реализован и обеспечил ракетам неограниченно долгий срок существования и
они надежно несли боевое дежурство. Правда их потом начали заменять на
твердотопливные после того, как Устинов пришел в Минобороны.
В такой замене не было абсолютно никакой
необходимости. Просто надо было поддерживать загрузку оборонного молоха. Вот и
воспользовались тем, что у американцев были твердотопливные ракеты, да к тому
же они были несколько проще по конструкции и в эксплуатации. Но американцы
пошли на твердотопливные потому, что они не смогли справиться с длительным
хранением жидкостных ракет и, испугавшись неудачи на их «Титане», перешли на
твердотопливные. К тому же у них уровень химической промышленности был
несоизмеримо более высокий, чем у нас. У нас Хрущев создал «большую химию», а у
них она сразу создавалась как «чистая химия». А это две большие разницы. Для
твердотопливного ракетостроения у нас были построены десятки новых заводов по
изготовлению неметаллических корпусов ракет и их начинке, а также других
производств. И все это теперь стоит без дела. Сколько средств и человеческого
труда зарыли в землю. А ведь можно было обойтись и без этого.
У нас в стране сложилась научная школа,
конструкторские коллективы и производственная база для жидкостного
ракетостроения. Высочайшая степень автоматизации этих ракет значительно
упростила их эксплуатацию в войсках и она почти ничем не отличалась от эксплуатации
твердотопливных ракет в шахтных пусковых установках. Введение ампулизации в
жидкостные ракеты позволило им стать невосприимчивыми к виду топлив, а
армейские топливные склады уже были созданы и, при переходе на твердые топлива,
эти склады продолжали функционировать, поскольку слитое жидкое топливо из ракет
все равно нужно хранить. Некоторое увеличение стоимости жидкостных ракет с
лихвой окупалось экономией затрат на создание новых заводов для
твердотопливного ракетостроения. К тому же твердотопливные ракеты, при сгорании
топлива, образуют значительное количество вредных токсичных веществ, в то время
как токсичные, сами по себе жидкие топлива, при сгорании образуют почти
нетоксичные продукты сгорания. Поэтому не было никакой необходимости и никаких
веских аргументов для перехода на твердотопливные боевые ракеты шахтного
базирования так же, как не было необходимости создавать подвижные громоздкие и
экологически опасные автомобильные и железнодорожные комплексы. Это была лишняя
никому не нужная трата средств.
Вторая причина моего ухода от работ по длительному
хранению ракет состояла, как я уже писал, в том, что меня отстранили от дефектации
ракет. Но служба и люди, выполнившие громадную работу по длительному хранению,
остались у меня в отделе. Это были творческие люди и сидеть без дела они не
могли так же, как и я сам. Поэтому мы начали заниматься новыми делами, которые
мы сами себе и придумали.
Во-первых, у меня как раз в это время начали
развиваться работы по обитаемости космических аппаратов и нужно было поставить
это дело на достаточно научную основу.
Во-вторых, надо было продолжить дальнейшие работы по
ракетной тематике, но уже в другом направлении. В начале 70-х годов мне стало
ясно, что ввод в массовую эксплуатацию большого количества ракет с высокотоксичными
жидкими компонентами ракетного топлива вызовет
значительные осложнения в области экологии. Тогда еще об этом никто не
думал и этот термин еще не был широко в ходу. Я сформулировал ряд экологических
задач применительно к ракетной технике и мы развернули большие работы по этому
направлению.
Ну, и в-третьих, пришлось основательно освоить
проблемы ядерной физики применительно к поражающим факторам ядерного взрыва. Дело
в том, что к тому времени начали серьезно развиваться работы по эффективной
защите шахтных пусковых установок стратегических ракет от ядерных взрывов. А у
меня в отделе находилась группа отличных физиков-ядерщиков, оставшихся от
мясищевской группы, занимавшихся самолетом с ядерным авиационным двигателем.
Когда я был в отпуске их перевели в мой отдел без согласования со мной и нас заставили
заниматься радиационной стойкостью космических аппаратов от воздействия всех
видов космического излучения. Нужно было поворачивать их в сторону ядерных
взрывов, что им было более близко. Это
также была наша инициативная работа, но потом стала на некоторое время одной из
основных.
Так, что творческих дел у нас не убавилось и мы
продолжали увлеченно работать, В это десятилетие нам работалось даже лучше, чем
в предыдущее. Тогда мы находились на острие начальственного внимания и были все
время в напряжении. Сейчас нас оставили в покое, предоставили самим себе и мы в
свое удовольствие работали никем не понукаемые и никем не подгоняемые. Это было
лучшее десятилетие, хотя оно пришлось, как теперь говорят, на эпоху застоя. Но
мы не стояли, а активно и плодотворно работали, о чем и пойдет мое дальнейшее
повествование.
ЭКОЛОГИЯ
«ШАР ЗЕМНОЙ — КУДА ТЫ КАТИШЬСЯ»
Космонавт Аксенов В.
В., кандидат технических наук, трудится в промышленности и специализируется в
области экологии. Он является членом ряда международных экологических
организаций и сформулировал шесть, как он считает, наиболее важных
экологических проблем, которые человечество накликало на свою голову в
результате своей неразумной деятельности. Он отмечает следующие проблемы:
-
увеличение
углекислого газа в атмосфере от газовых выбросов, что ведет к потеплению
климата,
-
уменьшение
площади лесов и опустынивание планеты,
-
ежегодное
уменьшение на 100 наименований флоры и фауны,
-
загрязнение
поверхностных слоев водоемов и морей, влекущее уменьшение фитопланктона,
-
загрязнение
поверхностных почв отходами,
-
появление в
биосфере новых, до того не имевшихся вредных веществ, таких как ДДТ, хлористые
и другие соединения.
К этим весьма важным
явлениям можно добавить по крайней мере еще не менее шести такой же важности
антропогенных факторов:
-
массовый выброс
фреонов в атмосферу, способствующий разрушению озонового слоя,
-
нерешенность
многотонного безопасного векового захоронения радиоактивных отходов,
-
резкое ухудшение
качества и структуры плодородных земель,
-
возрастание
опасности технотронных крупномасштабных катастроф от массового использования
ядерного топлива, трубопроводного транспорта и крупнотоннажного
сосредоточенного использования химически активных веществ,
-
загрязнение и
сокращение мировых запасов пресной воды,
-
неразумное
чрезвычайно форсированное извлечение из недр минерального сырья.
Это те новые явления,
появившиеся на планете в течении бурного ХХ века, когда только 25% ее населения
встало на путь интенсивной индустриализации. Некоторые горячие головы начали
панически предрекать наступление конца света в ближайшее время из-за экологических
катастроф.
Ну, что же, такие «паникеры» нужны для того, чтобы
привлекать все большее внимание на эти явления, которые все больше выявляются и
изучаются трезвомыслящими людьми.
В будущей
грядущей всеобщей индустриализации человечества именно экологический фактор
станет главенствующим. Ни скорость процесса индустриализации, ни ее
технологическая и экономическая эффективность должны будут характеризовать
развитие будущего человеческого общества. Забота о сохранении планеты, ее ноосферы
и обеспечение приемлемых условий обитания на ней станут определяющими. Во весь
рост эта проблема встанет через пару веков. А до этого у человечества есть еще
время, в течение которого экологическая составляющая его нравственности должна
стать главенствующей. Но уже сейчас нужно менять программы школьного и
вузовского образования, все больше уделяя в нем внимания экологической составляющей.
И особенно к нему нужно поворачивать общечеловеческую культуру и производственную
деятельность.
И как не покажется странным, уже сейчас нужно начинать
обсуждать с целью поиска средств и методов предотвращения столкновения Земли с
крупными небесными телами. Такая ситуация была не раз в истории Земли и не исключено
ее повторение. Пусть, если даже это случится через миллионы лет. Мы должны готовить
грядущие поколения и накапливать научный и экспериментальный материал уже со
следующего столетия. Как бы мы не боролись за экологию, но если планете грозит
еще раз поменять местами полюса, то это без всемирной катастрофы для всего
живого не обойдется. И здесь нужно подумать о заблаговременном выявлении такой
опасности от столкновения и думать о том, как разрушить приближающийся объект
на дальних подступах к Земле. И может быть накопленный опыт разрушительной
деятельности когда-нибудь пригодится человечеству, чтобы спасти себя и планету.
И тогда ракетно-космическая деятельность станет главной для человечества, ибо
глобальная катастрофа грозит ему не от внутрипланетарной деятельности, а от
немых пришельцев из космоса. Если когда-нибудь и появятся на Земле живые
пришельцы из космоса, то Земле будет грозить опасность не от их разума, а от
микробиологической флоры, которую они принесут с собой. Ну это уже прямо из
области фантастики. А вот о немых пришельцах люди должны думать и чем дальше
тем больше, ибо человечеству будет, что терять. Если Ною нужно было взять
только «каждой твари по паре», то будущим потомкам уже нечего будет брать после
такого столкновения.
ДЕТОКСИКАЦИЯ РАКЕТЫ УР-530
Но вернемся от высокопарных рассуждений в планетарных
масштабах, к нашим земным делам, которые протекали в 70-х годах у нас на
предприятии. Челомей, предвидя проблемы, которые неизбежно появятся со снятием
с дежурства наших жидкостных ракет, уже тогда начал задумываться о будущем этих
ракет. Основная ракета, пришедшая на смену ракеты УР-100, была наша ракета на
тех же жидких топливах. Мы называли ее у себя — «тридцатка». Сейчас она
называется СС-19 и буквально на днях я услышал по радио, что снят последний ее
экземпляр с боевого дежурства. Это ракета среднего класса между УР-100 и
днепропетровской тяжелой ракетой. Но размещается она во все той же шахте ракеты
УР-100. И диаметр контейнера тот же. Но вот эта ракета, по своей конструкции,
позволяет подвергаться модификации без особого труда. Собственно на базе этой
конструкции ракеты, как прекрасного образца, я и сформулировал тогда Челомею
свою сентенцию о необходимости обеспечения возможности легкой модернизации
ракет. Я тогда увидел в ней такие возможности.
Вот тогда Челомей и предложил установить на ракету
«Протон», а она шла под шифром УР-500, три «тридцатки» и тем самым существенно
поднять грузоподъемность «пятисотки». Так получилась ракета с шифром УР-530. На
нее у нас на Филях был разработан эскизный проект, который составил что-то
около 30-ти томов. Один том был посвящен экологии. Он был разработан нами по
нашей инициативе.
Мне виделись тогда в области экологии ракет задачи
безопасной эксплуатации ракеты при ее нахождении на старте, в полете и при падении
отработавших ступеней. Некоторые основные из них следующие.
Первое. Отработанные ступени «Протона», как и всех
других ракет, падают с невырабатываемыми остатками топлива. При их падении топливо
из баков разливается и просачивается в грунт, загрязняя его и грунтовые подпочвенные
воды. Нужно было разработать специальные конструктивные меры для полного удаления
в полете невырабатываемых остатков топлива из баков с тем, чтобы ступени падали
сухими. Этот комплекс мероприятий, вводимых в конструкцию ракеты мы тогда
определили термином «детоксикация ракеты», который прижился и фигурирует теперь
как официальный термин в ракетной технике. Он был принят мною в результате
конкурса, который я объявил в отделе на определение этого термина, наиболее
полно отражающего сущность мероприятия. С этим термином победил наш Воинов.
Второе. Нужно было разработать более совершенные
методы нейтрализации баков после нахождения в них топлива с тем, чтобы максимально
полно удалить из пор металла остатки топлива, а также чтобы в отходящих
продуктах после нейтрализации выводящиеся остатки топлива были бы минимально
токсичными.
Третье. Необходимо было разработать принципиально
новые методы переработки и уничтожения гептила, поскольку нигде в промышленности
он больше не используется, а его произведено и накоплено тысячи тонн.
Четвертое. Необходимо было изучить состав продуктов
сгорания, оценить количество этих продуктов после сгорания топлива за один полет
и общую их массу с тем, чтобы определиться со степенью опасности этих выбросов
для озонного слоя Земли.
По всей этой тематике, которую мы сами сформулировали,
мы провели обширные исследования, а конструкторы разработали конструктивные
мероприятия по осуществлению детоксикации ракет на жидких топливах. Результаты
этих исследований и конструктивных разработок составили содержание нашего тома
эскизного проекта ракеты УР-530, который мы так и озаглавили «Детоксикация
ракеты». Этим томом мы впервые в ракетной технике ввели экологическую
проблематику, сформулировали ее содержание и наметили пути решения.
Челомей высоко оценил эти работы и они послужили
частичному восстановлению наших отношений. Но полного сотрудничества еще тогда
не установилось, как бывало прежде. Вместе с тем, меня посылали докладывать об
этой работе в ЦК КПСС, министерство и в ряд НИИ, поскольку экологическая
тематика еще только формулировалась и везде ее оценивали должным образом.
Проект УР-530 «рассматривали» на всех уровнях очень долго и, в конце концов,
«зарубили» и не дали его реализовать. К тому времени у меня восстановились на
почве детоксикации нормальные деловые отношения с Челомеем и при одном из посещений
его, после обмена мнениями о проекте УР-530, он начал меня успокаивать, чтобы я
не расстраивался из-за того, что завалили проект УР-530. Как будто я был
главный конструктор этого проекта. А я действительно переживал из-за этого.
Ведь мы так много нового вложили в этот проект и не только в области детоксикации.
Мероприятия по детоксикации ракеты, разработанные тогда, начинают
реализовываться только сейчас, спустя 25 лет в проекте модернизации «Протона»,
который мы наконец-то начали осуществлять. В течение десятилетий нам не давали
осуществить его модернизацию. Особенно этого требовала система управления,
приборы которой были разработаны на старой элементной базе. Эти элементы были
давно сняты с производства и для изготовления приборов для «Протона»
приходилось сохранять небольшой объем изготовления этих устаревших элементов.
Пока государство занималось экономикой, это еще как-то решалось. А при диком
рынке это стало просто невыносимым. Эти монополисты устаревшей техники выжимали
бешенные деньги за изготовление старья, но деваться некуда. Вот только тогда
нам разрешило, а вернее, заключило Российское космическое агентство (РКА)
договор на модификацию «Протона» на современном техническом уровне. Не давали
нам его модернизировать из-за разрабатывавшейся ракеты-гиганта «Энергия». Когда
стало ясно, что ее некуда девать и она никому не нужна такая, на которую затратили
несколько миллиардов рублей, вот только тогда поняли, что без модифицированного
«Протона» нашей космонавтике в будущем делать будет нечего.
Поэтому наш «Протон» послужит еще долго. И мне
приятно, что в статье «35 лет РН «Протон» в журнале «Новости космонавтики» №
1/2 за 1998 год упомянута и моя фамилия в числе тех, кто «на проектном этапе
принял непосредственное участие в определении технических параметров ракеты». В
проект ее пневмогидросистемы было перенесено все то, что мы наработали в
области ампулизации ракеты УР-100, исключив сварные заключительные стыки.
Вместо них мы разработали специальные, так называемые, двухбарьерные уплотнения
разъемных соединений. Они ни разу не потекли ни на одной ракете, в отличие от
разъемных соединений КБ «Южное», из-за которых была выброшена их первая тяжелая
ракета.
В настоящее время Российское космическое агентство
выдало нам задание на разработку ракеты-носителя «Ангара». Это средняя ракета
между «Протоном» и «Энергией». Но если бы нам в свое время дали возможность
осуществить проект УР-530, то не нужно было бы разрабатывать утопическую
«Энергию». И боевые ракеты СС-19, снятые с боевого дежурства, мы только сейчас
начинаем модифицировать в ракету-носитель малого класса «Рокот» для запуска
мелких спутников. Все это делается с задержкой на четверть века. Насколько
далеко смотрел Челомей! Сколько загублено его прекрасных идей из-за его характера. Благодаря своей нетерпимости и
чрезмерной переоценке своих возможностей он приобрел удивительную способность
превращать своих друзей и единомышленников в своих врагов. Их набралось столько
у него на всех уровнях, что все они вместе так и не дали ему развернуться в
космосе в полную силу. Но он и в таких условиях сделал немало.
ВЗРЫВАЕМОСТЬ ГЕПТИЛА
Для оценки величины вреда, приносимого гептилом
окружающей среде, находящегося в упавшей ступени ракеты, нужно было изучить ряд
факторов. При ударе ступени о землю часть гептила взрывалась и разбрызгивалась,
часть сгорала, а часть проникала в грунт. Вот эта часть, попавшая в грунт, и
представляла наибольшую опасность, заражая грунт и разносясь подпочвенными
водами на большие расстояния.
Дело в том, что гептил является высокотоксичным
органическим веществом, которое не саморазлагается, не ассимилируется природой,
а накапливается в окружающей среде, действие которого на окружающую среду еще недостаточно
изучено, но которое однозначно является крайне неблагоприятным для всего живого.
В наше реформенное время появилось сообщение, что на
Алтае начали рождаться «желтые» дети с желтым цветом кожи, которые болезненно
развиваются. В крови всех детей нашли диметиламин. Это основной продукт в гептиле,
который по химической терминологии называется несимметричный диметилгидразин. А
гептил — это его упрощенное название. Вот сейчас и поднялся шум о том, что
ракетчики стали причиной калеченья детей на Алтае. Туда падают вторые ступени
нашей ракеты «Протон». Но они, в отличие от первых ступеней, падают с уже
выработанным топливом. Очевидно, что даже малое количество гептила, остающееся
на стенках баков в виде пленки, уже оказывает влияние на окружающую среду. Но
факт есть факт — диметиламин обнаружен. Правда не доказано, что именно он
явился причиной пожелтения детей. Но все равно его наличие в крови не подарок.
Позже мне стало известно, что на Алтай падают и вторые
ступени ракет КБ «Южное» с не до конца выработанными остатками гептила и они
явились, в основном, источником заражения Алтая гептилом.
К концу 1995 года появились сообщения о том, что
«желтые» дети стали рождаться в Архангельске, Ельце, Ельне. И это опять-таки
связывается с наличием гептила в тех районах.
В них действительно есть ракетные базы по утилизации жидкостных ракет, а в
районе Архангельска вообще функционирует ракетный полигон «Плесецк».
Для изучения отмеченных задач мы в Фаустово, в нашем
экспериментальном отделе, соорудили пятнадцатиметровую вышку и начали с нее
бросать на землю стеклянные ампулы, заполненные небольшим количеством топлива
гептила и окислителем АТ для него. Ампулы мы располагали в различном положении
относительно друг друга с тем. чтобы при соударении с землей были обеспечены
различные условия смешения этих компонентов. Эти ампулы имитировали падение отработанных
ступеней ракет с невыработанными остатками топлива.
При падении ампул происходил минивзрыв,
сопровождавшийся разбросом компонентов и последующим их выгоранием. Все эти процессы
мы фиксировали ускоренной киносъемкой и сопровождали анализом грунта в месте
падения ампул. Мы выявили ряд интересных закономерностей этого процесса и ввели
понятие «динамический тротиловый эквивалент». Обычный тротиловый эквивалент
характеризует силу взрыва какого-либо вещества по отношению к силе взрыва тротила.
Для падающей ракеты с несколькими компонентами топлива мы установили величину
«динамического эквивалента взрыва», который дополнительно еще учитывает влияние
на силу взрыва смешения компонентов, происходящего при соударении ракеты с
землей. На основании наших экспериментов мы определили подход в установлении
этого коэффициента, а не только его величину.
Очень скоро
жизнь провела проверку правильности наших выводов, сделанных на основании
проведенных экспериментов. В то время в Европе появились американские крылатые
ракеты «Томагавк», нацеленные на СССР. Эти ракеты наводились по рельефу
местности. Это было грозное оружие, поскольку у этой ракеты подлетное время
составляло порядка 5—10 минут и летела она на малой высоте. Поэтому ее очень
трудно было обнаружить заранее и уничтожить. В ответ на это оружие Челомей
начал проектировать свою аналогичную ракету. Но Челомей не был бы Челомеем,
если бы стал слепо копировать. Естественно, он пошел значительно дальше. Если
«Томагавк» был дозвуковым и являлся оружием европейского театра действий, то
Челомей задумал свою ракету сверхзвуковой и стратегического назначения со
стартом с подводной лодки. Во многом она повторяла ракету Мясищева «сороковку»,
но, конечно, была более совершенной. Например, у нее были складывающиеся
крылья, как на всех его ракетах с подводным стартом, с тем, чтобы ракету можно
было запустить из контейнера.
Вот на контейнере и было проверено наше умение
определять силу взрыва ракеты. Пусковой контейнер при первых летных испытаниях
располагался на открытой площадке вблизи других технических сооружений.
Военные, пускавшие ракету, потребовали заключение о том, что если ракета
взорвется в контейнере, то близлежащие постройки не пострадают. Мы провели
расчеты и выдали заключение, попутно определив, что контейнер выдержит эту силу
взрыва и не разрушится.
При первом
же пуске ракета таки взорвалась в контейнере и он не разрушился, а ракета
вылетала из него по кускам, которые тут же падали и не причиняли никакого
вреда. Эта была неудача для фирмы, но нам приятная.
После длительных доводок ракета все-таки начала хорошо
летать, а для ее эксплуатации была спроектирована и построена специальная
атомная подводная лодка. Меня и Л. С. Наумова Челомей даже послал в Ленинград в
конструкторское бюро Спасского, которое спроектировало лодку, с тем, чтобы мы
их убедили в безопасности нахождения этих ракет на корабле рядом с экипажем.
Спасский очень долго нас пытал, но все-таки нам удалось его убедить в этом.
Построенная подлодка с челомеевской ракетой в итоге так и не поступила в боевую
эксплуатацию по неизвестной для меня причине. И, наверное, слава богу. В
противном случае начался бы новый виток гонки вооружения, поскольку у американцев
такого оружия так и не появилось. А здесь Челомей оказался как всегда «впереди
планеты всей».
Это был первым из известных мне случаев, когда разум у
наших руководителей возобладал над военным молохом. Может быть, если и не
разум, то какие-то обстоятельства все-таки способствовали предотвращению
очередного растранжиривания народных средств.
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РАКЕТЫ
Гептил и окислитель являются высокотоксичными и
агрессивными веществами. После даже непродолжительного нахождения компонентов в
баках ракеты и слива, на стенках остается значительное их количество. Поэтому
баки нужно тщательно очищать для последующей работы с ними. ГИПХ разработал
методику очистки путем промывки их водой. Но даже после промывки водой в баках
накапливаются с течением времени пары компонентов. К тому же после промывки
водой повторно заправлять баки нельзя для длительного их использования в заправленном
состоянии. Компоненты, как мы установили, попавшие в поверхностные микропоры
металла, водой не вымываются. Они там только подрастворяются и становятся еще
более коррозионноопасными. Нужны были иные методы очистки баков, т. е. их
нейтрализации.
Для того, чтобы надежно удалить следы компонентов
нужно было изучить природу физико-химических связей компонентов с металлом
стенок баков и затем определить энергию этих связей. И потом уже на основании
знаний, полученных об этих связях, можно было подбирать соответствующие
физико-химические воздействия, направленные на разрушение этих связей.
Сформулировав таким образом задачу, мы изложили ее
специалистами химфака МГУ и они с интересом и большой охотой взялись ее решить
с нашим участием. Возглавил эти работы Страхов Борис Васильевич. Они очень
быстро и блестяще разобрались в этих связях и начались поиски методов их
разрушения.
Удаление окислителя не составило большого труда,
поскольку он основан на азотистых соединениях. А вот с гептилом пришлось повозиться.
Мы вместе с химфаковцами перепробовали все мыслимые физические и химические
способы с использованием различных растворителей. И самым лучшим оказался метод
газового озонирования, при котором заключенный в баке озон за несколько часов
полностью окислял и разлагал гептил, находящийся в адсорбированном состоянии на
поверхности, а также капиллярно-сконденсированный в поверхностных микропорах,
на нетоксичные газовые составляющие. Была изучена полная кинетика этих
процессов с установлением количественных величин.
На способ нейтрализации методом озонирования мы
получили авторское свидетельство на изобретение и он вошел в нашу производственную
инструкцию. А вот в войсках он так и не прижился из-за того, что промышленность
не смогла обеспечить армию озонаторами. Выпускавшиеся в г. Кургане озонаторы
были недостаточно эффективны, а новые озонаторы, разработанные химфаковцами,
промышленность так и не начала тогда изготовлять. Даже в перестроечное время
она не смогла организовать через малые предприятия их изготовление. Об этом писалось
даже в печати, поскольку озонаторы теперь повсюду потребовались там, где нужно
глубокое окисление. В настоящее время проектирование и изготовление озонаторов
различного вида развернул ГКПЦ им. М. В. Хруничева.
При изучении процессов окисления мы установили факт
неполного окисления несливаемых остатков гептила, которые остаются в баках. При
нахождении ракеты в горизонтальном положении эти остатки стекают вниз бака и частично
гептил заполимеризовывается за счет неполного окисления в виде узкой коричневой
полосы. Эта пленка не растворяется даже озоном. Но при повторной заправке эта
пленка отмывается свежим гептилом и расходится кусками по всему объему бака.
При работе двигателей эти пленки могут попасть на форсунки двигателя и заглушить
их. Это обстоятельство будет иметь существенное значение при использовании
«слитых» ракет СС-19 при переделке их в носитель «Рокот». Предотвратить
образование пленок можно только, если после слива эти остатки гептила испарить
путем длительной продувки сухим азотом повышенной чистоты.
УТИЛИЗАЦИЯ ГЕПТИЛА
В то время, когда у нас на предприятии велись работы
по разработке ракеты УР-530 с использованием ракет СС-19, которые будут сливаться
и сниматься с боевого дежурства, я начал задумываться о том, что делать с тем гептилом,
который сольют с тысячи ракет. Это будет порядка пятидесяти тысяч тонн гептила,
да плюс еще имеющийся до того запас. Это же экологическая бомба. Пока гептил
находится в ракетах он, образно говоря, хлеба не просит. Но будучи слитым с
ракет он потребует громадных средств на его хранение. С окислителем будет
проще. Он с небольшими затратами может перерабатываться на азотистые удобрения.
А гептил придется хранить вечно, если не придумать приемлемые способы его
переработки или использования.
Мы показали, что наилучший способ его расходовать —
это запускать многотоннажные ракеты типа «Протон» или УР-530 и тем самым использовать
его по назначению. Но нам возражали тем, что это высокотоксичный продукт и
лучше иметь ракеты на нетоксичных продуктах, таких как кислород и керосин, на
которых летает королевская «семерка». Мы отвечали, что если применять
ампулизацию в конструкции ракеты, аналогичную той, которая была применена для
ракеты УР-530, то никакая токсичность компонентов не будет страшна. Обслуживающий
персонал и природа от компонентов страдать не будут. Это подтвердил массовый
опыт эксплуатации ракет УР-100 в течение многих лет.
Затем мы обнаружили совсем обескураживающий для наших
оппонентов факт. Оказалось, что такие токсичные компоненты как гептил и амил
(это сокращенное название четырехокиси азота, по аналогии с гептилом) при сгорании
в ракетном двигателе образуют практически нетоксичные продукты сгорания. Это
обычное явление в химии, когда происходит полное окисление какого-либо
продукта. Так, для пары гептил-амил в продуктах сгорания образуется всего 2%
двухокиси углерода, а для пары кислород-керосин 27%. Но даже этот факт не помог
тогда отстоять проект УР-530. Сейчас новый проект «Ангара» уже закладывается на
абсолютно экологически чистой паре кислород-водород. Этот носитель
проектируется одноразового использования.
Вернемся к гептилу, который как бы не сжигали в
ракетах все равно весь ракетами не используешь. Поэтому все равно нужно иметь
способ его утилизации. С этой целью ГИПХ разработал метод и установку для
сжигания гептила с добавлением керосина. Для сжигания одной тонны гептила нужно
расходовать десять тонн керосина. Вот уж воистину ассигнациями обогревать небо!
К тому же, при этом во время сжигания гептила образуются продукты его неполного
окисления, которые еще более токсичны, чем сам гептил. Сжигая гептил таким
варварским методом, мы весь гептил в еще более токсичном виде выбрасываем в атмосферу.
И не ясно, где он будет более опасен — в грунте или в атмосфере, где он разнесется
по громадной площади.
Кроме этого дикого метода, ГИПХ разработал метод
каталитического разложения гептила. Но не смог подобрать необходимые катализаторы,
ибо продукты разложения при этом методе также оказываются токсичными.
Работая с лабораторией катализа химфака МГУ, мы
предложили им разработать более совершенный метод утилизации гептила. Этими работами
руководил Лунин Валерий Васильевич, ныне декан химфака МГУ. И они подобрали соответствующий
катализатор и режимы разложения, применив продувку гептила водородом, при температуре
порядка 400°С. При разложении по такому методу образуются только нетоксичные
продукты: метан, азот, водород и аммиак. При другом катализаторе получается еще
один дополнительный продукт, используемый в фармацевтической промышленности. На
эти два способа мы получили два авторских свидетельства на изобретение в 1976 и
1978 годах. Мои неоднократные усилия тогда не смогли привести к созданию реакторной
колонки для разложения гептила по нашей методике.
В начале 90-х годов я вновь попытался поднять эту проблему,
поставив ее перед Управлением топлив и смазок войск тыла Вооруженных сил. Я их
посетил и обстоятельно изложил проблему, поскольку они являются владельцами
всех видов топлив в Вооруженных силах, включая и гептил. Я предложил им свои
услуги по утилизации гептила. Они выслушали меня с интересом, но потом
«замотали» этот вопрос. Я был занят по службе и не проявил тогда должной
настойчивости.
Затем, чтобы вновь
оживить это дело, я написал гневное письмо в «Правду», в том числе и о гептиле,
а они возьми и опубликуй его в виде большой статьи. Ниже привожу эту статью.
РАЗОРУЖАТЬСЯ, НО С
УМОМ
ХВАТИТ ПОЛИТИЧЕСКИХ
АМБИЦИЙ
(Опубликовано в газете «Правда» от 30.12.92 г.)
Прочитал в «Правде»
от 8 декабря с. г. статью «Нельзя остаться беззащитным» о планах сокращения наших
стратегически ракет и ужаснулся. Что творят нынешние наши руководители с
ракетно-ядерным щитом страны, который обеспечил миру и нам покой и мирную жизнь
за последние четверть века!
Сколько сил, ума, энергии и средств было вложено в его
создание народом. А теперь это сдерживающее начало уничтожают, оставляя свободу
действия политикам и поощряя все большую вседозволенность.
Выступление автора в защиту стратегических ракет
шахтного базирования оправдано и своевременно. Оно мне напоминает период двадцатипятилетней
давности, когда такие ракеты создавались, и мне пришлось активно принять
участие в этом процессе в составе коллектива академика В. Н. Челомея.
Основной
довод сторонников подвижных комплексов состоит в том, что-де они являются
оружием ответного удара. Американцы строят свою стратегию на нанесении
упреждающего ядерного удара. Мы в этом случае, по нашей докторине, должны
выдержать удар и затем ответить на него. А шахты, мол, стали уязвимы с увеличением
точности попадания современных ракет.
В этой концепции есть два принципиальных изъяна.
Первый — выйти из зоны активного поражения мобильные ракеты все равно не в состоянии.
Мощность ударной волны, проникающая радиация и электромагнитный импульс нынешних
ядерных зарядов таковы, что от них далеко не убежишь и на поверхности земли от
них не защитишься в течение тех примерно двадцати минут подлета ракет, которые
будут в распоряжении подвижного комплекса, чтобы сменить место дислокации.
Особенно это касается железнодорожных ракетных
комплексов. Когда Челомею в конце 60-х годов было предложено начать их разработку,
у него было единственное возражение, которому трудно было что-либо
противопоставить. Если мобильные ракеты будут «бегать» по железным дорогам,
говорил Челомей, то мы тем самым совместим для противника сразу две
стратегические цели — железные дороги и ракеты, находящиеся на них.
Второй изъян в утверждениях «подвижников» — они не
собираются отказываться от экономически самоуничтожающей концепции «ответного
удара». Дело в том, что если потенциальный противник нанесет массированный удар
по нам, то он сам же от него и погибнет.
Можно предположить, что в будущем ядерные ракеты
вообще могут не понадобиться. Для отрезвления политиков от соблазна ядерного нападения
можно будет использовать ракеты с обычными зарядами, объявив, что они нацелены
на атомные электростанции потенциального противника. Но и в этой гипотетической
ситуации ракеты шахтного старта будут решать задачу более эффективно. Дело в
том, что все эти ракеты, надеюсь, никогда не будут применены. Но они висели и
будут висеть над политиками «дамокловым мечом». Для сохранения мира они могут
еще подежурить.
За это время можно и нужно создать средства и способы
для эффективной утилизации ракет, а не бессмысленно их уничтожать. С тем, чтобы
в грядущие годы, когда их все-таки придется снимать или менять на новые, можно
было бы использовать их в народном хозяйстве. А это можно сделать без больших
затрат, растянув процесс во времени. Например, жидкостные ракеты после снятия с
боевого дежурства можно легко переделать в установки по переработке отходов животноводства в
высококачественные минеральные удобрения и получать попутно газ для местного
отопления.
При обсуждении проблемы снятия с вооружения
стратегических ракет почему-то не затрагивается вопрос: куда будут девать
сливаемое с ракет топливо? Оно представляет собой высокотоксичное вещество, не
ассимилируемое природой и не находящее применение ни в технике, ни в
промышленности. По нашей инициативе еще в
1970 году химфак МГУ разработал метод каталитического разложения
ракетного топлива — жидкого гептила на газообразные: метан, аммиак и азот без
образования каких-либо токсичных побочных продуктов. Эта разработка защищена
авторским свидетельством на изобретение, но пока не востребована. До нас
доходят сведения, что на Украине ведут переговоры с какой-то американской
фирмой об утилизации ею гептила, который нужно будет слить со 176 ракет,
предназначенных к снятию с вооружения в этой республике.
Значительно разумнее будет с этим не спешить.
Высокотоксичное топливо гептил при сгорании в двигателях ракеты образует почти
нетоксичные продукты. Поэтому, с экологической точки зрения, сжигать гептил в
двигателях ракет более целесообразно, чем хранить и затем утилизировать без
какой-либо пользы.
Так, что нам разоружаться надо. Но не в спешке, а с
умом. И не только нести при этом обременительные затраты, а и получать выгоду
от разоружения. Иначе говоря, проводить разоружение не как политический акт, а
как целесообразную экономическую деятельность, подчиненную не амбициям политиков,
а здравому смыслу.
А
ДЕЛО ВСЕ-ТАКИ ДВИГАЛОСЬ
Никакой реакции ни от каких ведомств на эту статью не
последовало. Ни опровержения, ни поддержки. И только в 1995 году из печати я
узнал, что дело все-таки двигалось, но без нас. В печати сообщали, что для
разложения гептила привлекли-таки американцев и не на Украине, а у нас в
России.
Газета «Красная звезда» в номере от 15.07.95 г.
писала: «В соответствии с договором о разоружении и сокращении стратегических
наступательных вооружений (СНВ) ликвидируется большое число ракет наземного и
морского базирования. При этом важнейшим вопросом для России является
уничтожение до 30 тысяч тонн особо агрессивного компонента ракетного топлива —
несимметричного диметилгидразина (гептила). На основании соглашения от 1992
года между правительством РФ и США разработан «Проект ликвидации жидкого
топлива российских баллистических ракет». Его участниками являются Акционерный
союз по конверсионной деятельности (АО «Асконд») и американская фирма «Эллайд
сигнал». В 1996 году из США будут поставлены три транспортабельных
гидрогенизатора по переработке гептила мощностью до трех тысяч тонн в год. В
результате безотходной и, что важно заметить, экологически чистой переработки
гептила будут получены ценные химические продукты: диметиламин (75%) и аммиак
(25%). По завершении проекта оборудование предполагается использовать для
выпуска различных химических веществ».
Буквально через три дня некто Петр Евсеев в газете
«Известия» за 18.07.95 г. сообщает следующее:
«Россия и США начинают новый совместный проект,
предусматривающий переработку излишков топлива российских баллистических ракет
в коммерческие продукты. На прошлой неделе руководители организаций,
участвующих в проекте, собрались в Москве для координации действий по его реализации.
Проект финансируется в рамках американской программы
Нанна-Лугара и предусматривает уничтожение 30 тысяч тонн несимметричного
диметилгидразина в течение 5—7 лет. По словам Николая Шумкова, начальника
Главного управления Госкомоборонпрома, координирующего эту программу, контракт
на техническое обеспечение работ по уничтожению и переработке ракетного топлива
выиграла американская группа компаний. Основным подрядчиком по проекту стала
корпорация «Тайкола», а в состав возглавляемой ею группы входят также компании
«Эллайд сигнал», «БДМ интернейшнл» и российское акционерное общество «Асконд».
Контракт стоимостью 25 миллионов долларов
предусматривает поставку в Россию 3-х гидрогенизационных установок. Первая из
них в случае успешного испытания в США будет установлена в конце этого года на
объекте НИИХИММАШа около Сергиева Посада.
Для России, сумевшей найти на утилизацию всех видов
топлива, ставших излишними в результате уничтожения ракет в рамках договора
СНВ-1, лишь 50 процентов от минимально необходимых средств и фактически
выделившей лишь 9 процентов денег, поставка трех установок будет бесплатной.
Продукты переработки несимметричного диметилгидразина, в частности лекарства,
могут быть проданы. Предполагается, что прибыль от их реализации пойдет на
финансирование других программ конверсии».
В середине 1996
года к нам на фирму поступил обстоятельный материал по описанию метода,
установки и условия по этому договору. Я полагал, что этот материал пришел к
нам на заключение, и был рад этому. Но оказалось, что он пришел по линии обычно
поступающей различной технической литературы и другой технической информации.
Из этого материала я увидел, что метод абсолютно схож с нашим. Они также разлагают
гептил в противотоке водорода при высоких температурах, что является основным в
процессе, конечно, исключая тип катализатора, который они не приводят. По
условиям контракта 40% полученных продуктов разложения американцы забирают
себе. Вот вам и «бесплатная» поставка установок.
После этого я написал в «Правду» статью «Критика стала
товаром», которую обещали опубликовать. Содержание этой статьи следующее:
«Наше постсоциалистическое общество по-прежнему никак
не может избавиться от бескорыстности в искреннем желании помочь делу путем
деловой и объективной критики. Реалии нынешнего нашего младорыночного общества,
усиленно формируемого сейчас, все кардинально изменили.
Раньше по критическим сигналам проходили обсуждения,
принимались решения, давались ответы критиковавшим, как правило в виде отписок,
и дело «двигалось». Ныне всей этой бюрократической возни нет. Сейчас действует
чистоган и желание урвать на всем чем угодно, в том числе и на критике.
Вот и газета «Правда» в 1992 году выступила в номере
за 30 декабря со статьей автора этих строк с критическими замечаниями, что у
нас не думают о том, куда девать ракетное топливо, гептил, сливаемое с ракет,
снимаемых с боевого дежурства.
Гептил весьма токсичный продукт, не находящий нигде
применения, кроме как ракетное топливо, и не ассимилируемый природой. Поэтому
его нужно хранить вечно, на что затрачиваются значительные средства. Хранение к
тому же десятков тысяч тонн гептила представляет собой значительную
«экологическую бомбу».
В упоминавшейся статье сообщалось, что по предложению
автора ученые химфака МГУ разработали в 70-х годах метод каталитического
разложения гептила на нетоксичные продукты и с целью популяризации метода
приводился состав этих продуктов. Эта статья появилась в силу того, что его
обращение до этого в Управление топлив и смазок войск тыла, которое является
фактическим владельцем гептила, не дало никаких результатов. Но редакция и
автор глубоко ошиблись. Реакция последовала, но уже в духе нынешнего воровского
времени.
Газета «Известия» в номере за 18.07.95 г. радостно,
захлебываясь от восторга, сообщила, своим читателя: «Ракетное топливо России
будет переработано по американской технологии». (Это заголовок их статьи). Не
будем пересказывать всю статью. В ней сообщалось, что это дело взял в свои руки
Госкомоборонпром. Как указывается, был проведен конкурс на разработку метода
разложения гептила и его выиграли американские фирмы. Непонятно, кто и во что
играли в этом конкурсе. Те, кто применяли этот гептил, в нем не участвовали и,
в частности, ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, у которого было снято с эксплуатации
почти тысяча ракет его разработки и с которых был слит гептил. Поэтому остается
непонятным, почему были привлечены американские фирмы к разработке метода
разложения гептила.
Американцы разработали свою технологию полностью
аналогичную нашей, отечественной, благо мы в той статье опубликовали состав конечных
продуктов разложения. Приоритет нашего метода засвидетельствован авторскими
свидетельствами на изобретения в 1976 и 1978 гг. «Известия», хлопая в ладоши,
сообщают, что контракт оценивается в 25 миллионов долларов, а мы внесли только
9 процентов стоимости. Поэтому три установки для разложения гептила будут
поставлены американской стороной бесплатно. Правда, почти половину продуктов
разложения 30 тыс. тонн гептила мы отдадим американцам за «бесплатную» поставку
установок.
Вот так, ныне критические замечания используются
оборотистыми людьми ради личного обогащения за государственный счет, ничего не
сделав по существу дела.
Установки поставляются к концу 1996 года в НИИХИММАШ в
Сергиевом Посаде. Но там ныне «зеленые» подняли кампанию протеста против этого
мероприятия. И очевидно правильно делают. Но возражать нужно не против уничтожения
гептила. Нужно требовать, чтобы вся схема установки и всех сопутствующих систем
были выполнены по принципу, примененному в ракетах ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Тогда
обращение и переработка гептила становятся абсолютно безопасными и это
подтверждено массовой эксплуатацией этих ракет, заправлявшихся гептилом, почти
в течение двух десятилетий».
«Правда» опубликовала эту статью за день до выборов
Президента — 15.06.96 г.
ТОПЛИВНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Ленинградский Государственный институт прикладной
химии — ГИПХ являлся головным институтом по жидким топливам для ракетной
техники. Раз в два-три года он проводил всесоюзные конференции по жидким
ракетным топливам. На них съезжались все ведущие специалисты от промышленности,
науки и военных. В общем, конференции были как конференции. Но одна из них была
весьма примечательной.
В середине 70-х годов директорствовать в ГИПХ
неожиданно пришел Гидаспов Б. В., а прежнего директора академика Шпака В. С. отправили
на пенсию, оставив в институте на консультационных ролях, чтобы он присматривал
за молодым и весьма активным директором. Вот Гидаспов и придал необычность этой
очередной конференции. Он решил провести ее в первых лицах и разослал
приглашения выступить на этой конференции всем Генеральным конструкторам
ракетной техники, президенту АН СССР Александрову А. А., Главкому ракетных
войск и директорам крупных институтов и заводов. И как ни странно большинство
из них приехало. Это меня, да и не только меня весьма удивило.
Челомей тоже поехал и поручил мне подготовить ему
доклад. Это мне не составило труда и он довольно легко и быстро усвоил содержание
доклада, благо все затрагивавшиеся в нем вопросы были ему хорошо знакомы.
Кстати, он и сделал его блестяще, не заглядывая в текст и существенно его
дополнив по ходу услышанного на конференции. В свою свиту он от нас взял своего
заместителя Карраска В. К., начальника двигательного отдела видного нашего
специалиста Наумова Л. С. и меня. От ЦНИИМАШ к нему примкнул один из замов
директора, не буду упоминать его фамилию. Он был тогда член-корром и добивался
академика. Ему нужна была поддержка Челомея при голосовании. И как было неприятно
смотреть, как он униженно лебезил перед Челомеем. Хотя в ракетной технике не
слышно было, чтобы он что-то сделал существенное да и директором ЦНИИМАШ он не
стал, а остался где-то в тени.
Сбор высшего технического света был организован на
высочайшем уровне. Во-первых, каждому высокому гостю была предоставлена «Чайка»
прямо на вокзале и затем эта машина обслуживала его все два дня, пока проходила
конференция. Во-вторых, кормили нас три раза в день по высшему разряду и
бесплатно в столовой ГИПХ, но без выпивки в отличие от того как это делается
сейчас. И в-третьих, была удивительная культурная программа.
Сама конференция была весьма деловая и она вышла
далеко за рамки чисто топливных вопросов, поскольку Генеральные конструкторы,
собравшись впервые вместе на научном форуме, вышли в своих выступлениях далеко
за рамки топлив и встали на путь обсуждения общего хода и стратегии развития
ракетной техники и космонавтики. Слушать всех кто выступал было весьма
интересно и поучительно. Ведь это было первое собрание таких высоких технических авторитетов, где они могли,
будучи не стесненными административными рамками, свободно излагать свои мысли и
широко их обсуждать. Таких встреч больше никогда не было.
Неприятный осадок оставило выступление академика
Мишина, который возглавил фирму после Королева. Мишин вышел на трибуну буквально
в стельку пьяный и нес такую околесицу, что по залу, а всего было человек 70,
пошел шумок недовольства. Сзади меня сидел Герман Титов, наш космонавт № 2, и у
меня с ним одновременно вырвались слова резкого возмущения. После этого мы
стали с ним вместе сравнивать и обсуждать доклады выступавших. Вообще у меня
протекают удивительным образом встречи с известными и солидными людьми. При первой
же встрече они проявляют ко мне удивительное расположение и внимание. Так и на
этой конференции было не только с Титовым. Выходя на одном из перерывов, я в
проходе столкнулся с Александровым и он настойчиво уступил мне дорогу. Мне так
и не удалось уговорить его пройти первым. После этого мы начали с ним раскланиваться.
А когда выпустили узников из «Матросской тишины», на одной из конференций левых
сил, я опять столкнулся у двери с Лукьяновым А. И. И опять я также не уговорил
его пройти первым в дверь. Так бывало и с первым замом министра у двери с
Уткиным. И все у двери. Просто удивительно. Естественно такие ситуации, которые
у меня бывали и не только такие, способствовали развитию дальнейших контактов.
Но я ими никогда не пользовался в последующих встречах.
Ну, а всех шокировала культурная программа. После
первого дня на встречу с нами пригласили Людмилу Сенчину. Это моя любимица и я
ее впервые увидел «живьем». Она весь вечер провела с нами. Много пела,
рассказывала о себе и вообще вела себя очень непринужденно. А вот удивил второй
день, когда завершилась конференция. Окончилась она очень поздно, поскольку долго
обсуждали итоговые документы. Было начало белых ночей, но довольно серовато на
улице. Нас посадили в «Ракету» и повезли в Петергоф на фонтаны. Когда приехали
стало совсем темновато. Дворец и парк стояли в темноте, выделяясь серыми
контурами. Мы удивлялись — зачем нас привезли в темень, что мы можем там
увидеть при неработающих фонтанах? Но только мы причалили к пристани как дворец
и весь парк мгновенно озарились мириадами разнообразных огней и светильников и
все заблестело в красочной иллюминации. Эффект от мгновенной вспышки в серой
тьме такого обилия света явился для нас как бы оглушительным залпом. Мы не
могли оторвать взгляда от этой сказки и все стояли как зачарованные с полуглупыми
улыбающимися лицами от удивления. Нас ждали. Встречала группа местных
сотрудников. Разбив на несколько групп, нас повели по парку во главе с экскурсоводом
в каждой группе. То была удивительная экскурсия несмотря на то, что я уже был в
Петергофе.
ОБОБЩАЮЩИЙ ТРУД
Все услышанное на конференции от созвездия генеральных
конструкторов было ново, интересно и на всех произвело сильное впечатление.
Когда готовились итоговые документы конференции, то записали отдельный пункт о
том, чтобы Генеральные конструктора оформили свои доклады в виде статей,
которые будут изданы в виде отдельного сборника.
Челомей поручил ее писать Карраску и мне, но
существенно расширив ее содержание даже по сравнению с тем, что он говорил в
ГИПХе. Он назвал статью: «Опыт разработки и эксплуатации ракетно-космических
комплексов ЦКБМ», так называлась наша
фирма — Центральное конструкторское бюро машиностроения, а мы, на Филях, были
его филиалом. Челомей сам определил, какой материал должен войти в статью. Но
прежде его нужно было собрать, сгруппировать в таблицы и графики, и потом связать
текстом. И все это в ограниченной по объему статье. В общем, работа была адова.
Карраск потихоньку отошел в сторону от этой работы и я остался один на один с
Челомеем. Он очень серьезно отнесся к этой статье, в которой подводился,
практически, итог его деятельности. Я просто замучился, да и он тоже. Сколько
раз он ее перекраивал и туда и сюда — счету нет. Обработанный технический
материал у него сомнений не вызывал. Вся кутерьма шла вокруг связующего текста.
В итоге, когда подошел срок отправлять статью, он сказал, что уже сам запутался,
переделывая по нескольку раз самого себя, и вообще эта статья начинает его
раздражать. И говорит мне: «Пишите, как вы считаете нужным, я не глядя подпишу
ее». Я быстренько написал последний вариант, он действительно, не читая, подписал
и мы отправили статью. Изданного сборника я так и не увидел. Очевидно режим
запретил широко его рассылать и к нам на Фили он не попал. Ведь в нем была
собрана, очевидно, вся стратегия развития нашей ракетно-космической техники,
изложенная первыми лицами ее создателей. Это вообще исторический сборник и
станет ли когда-нибудь он известным широкой аудитории?
После этой статьи наши взаимоотношения окончательно
восстановились и он великодушно порекомендовал мне написать себе докторскую
диссертацию, что я взял и сделал. Это было уже после предложения Полухина.
Диссертация называлась «Разработка научных основ обеспечения долговечности
топливных трактов ампулизированных стратегических ракет на жидких топливах». В
нее я включил, практически, весь наш материал, наработанный моим отделом за
десять лет. Все это ведь делалось по моим идеям и под моим непосредственным руководством.
По этой тематике уже защитили кандидатские диссертации три моих сотрудника, о
чем я уже писал.
Оформленную
диссертацию я отдал ему читать и он продержал ее в Реутово года три или четыре
вплоть до своей нелепой кончины из-за слома ноги. В гараже его машина,
покатившись, будучи не поставлена на ручной тормоз, прижала ему ногу к двери и
сломала ее. И когда он уже собирался выписываться из больницы, при внутреннем
кровоизлиянии оторвался тромб и врачи не успели его спасти. Точно также погиб
мой сотрудник Паша Кремер. Дикая, нелепая смерть. Челомей мог бы еще многое
сделать.
Ну, а
тогда, когда моя диссертация лежала у него, я пытался несколько раз говорить с
ним на эту тему, но он все отговаривался, что нет времени ее посмотреть. А
потом я и вспоминать о ней перестал. После кончины Челомея, из Реутово ее сами,
без мой просьбы, переслали мне на Фили и я быстренько ее защитил. Все НИИ, ОКБ
и заводы дали хорошие отзывы, поскольку все это делалось на их глазах и при
участии многих из них. После защиты, в ВАК пришла грязная кляуза на меня, что
мол все это сделал не я, а сотрудники отдела и вообще я ярый националист. Эту
кляузу переслали к нам в Фили, где была создана комиссия по расследованию. Она,
конечно, все это отмела и ВАК без задержки и даже без беседы со мной утвердил
защиту. По тексту кляузы мне стало ясно, кто это написал, поскольку там были
использованы даже целые обороты из диссертации одного моего сотрудника. Я
уверен, что он написал эту кляузу под давлением одного моего «заклятого» завистника
и злопыхателя, хотя и тайного, и моему сотруднику пришлось пойти на эту
подлость. Я, конечно, никому ничего не сказал, а этот сотрудник по служебной
карьере пострадал, очевидно, за неудачно
написанную кляузу.
Следует отметить, что за все годы Челомей никому из
руководителей не дал разрешение на защиту докторских диссертаций. Даже Карраск
так и остался с кандидатской степенью, которую получил после защиты еще у Мясищева.
А вообще у нас к тому времени на фирме защитили докторские диссертации только
три человека.
Первым защитился Росенбаули О. Б. по системам
управления еще до прихода Челомея. Вторым защитился Цуриков Ю. А. по динамической
устойчивости ракет. Челомей дал ему разрешение на защиту, очевидно, потому, что
это была математическая работа как раз в области научной квалификации Челомея и
он понимал ее и признавал за диссертацию. Говорили, что Челомей не давал
разрешение на защиту докторских потому, что за ученого на фирме он считал
только самого себя. Думаю, что это не так. Будучи специалистом в одной из
сложных научных дисциплин — динамическая устойчивость сложных технических
систем — он прекрасно владел математическим аппаратом и за диссертации признавал
только те, которые покоились на солидном математическом аппарате. А такие
работы как моя, основывающаяся на физико-химии выходила за круг его интересов.
В этом я убедился, когда стал членом Ученого совета в Реутово, который
формировал по составу еще Челомей. Этот совет высокоматематического уровня,
кстати, не взял, например, на защиту диссертацию моего аспиранта Бахвалова Ю.
О., которая была посвящена конструированию геометрически стабильных конструкций
из углепластика, работающих в открытом космосе. Там он в поисках оптимума решил
систему уравнений с четырьмя неизвестными первого порядка. Возражения были в
том, что это не математика, поскольку нет ни одного интеграла.
КАК МЫ ОТДЫХАЛИ
АППАРАТ СИМ-СИМ-2
Плодотворная работа
отдела, который имел тогда номер 580, объяснялась не только высокой квалификацией
его сотрудников, но и благодаря дружбе, остроумию и веселому нраву многих. Я
уже писал, что душой коллектива и неформальным лидером был Леня Кишнев. Именно
благодаря его характеру и темпераменту мы были тесным и дружным коллективом.
Как и во многих
подразделениях у нас весьма часто бывали застолья и, как правило, на них всегда
бывал Нодельман. Он уважал нас. На этих застольях бывали розыгрыши, шутки и
конечно стихи. Всем на дни рождения дарились скромные символические подарки и
обязательно стихи. Я их все храню как дорогую память и позволю себе привести
некоторые из них.
Когда провожали нашу незабвенную Зою Александровну
Красникову в так называемый «академический отпуск», ей была посвящена целая
ода. Вот некоторые выдержки из нее:
«… Так жизнь любить, как Вы,
Не каждому дано,
Смеяться и шутить,
Хоть не всегда смешно,
Любить семью, друзей,
Работу, коллектив —
Вот жизни Вашей смысл
И основной мотив.
Так пусть же никакая боль
И никакая стужа
Вам не остудит сердца жар
И радость в жизни не остудит.
И мы желаем Вам,
Здоровья накопив,
Вернуться через год
В наш дружный коллектив…»
Но она не вернулась, отойдя в мир иной.
Были строчки и обо мне в виде целого «Слова…»
«…Кулага — Солнце там сиял
В высокой гриднице своей.
Речам пирующих внимал,
В кругу друзей за шумною беседой
Былые битвы вспоминал.
В сраженьях был всегда он первым:
Его искусство боя увлекает,
Безумной храбростью и мужеством своим
На подвиги дружину вдохновляет.
А в людях ценит ум и труд,
Союз добра и истины достойно ценит,
Душою настоящий славянин,
Он к людям справедлив и долгу не
изменит.
Царям он правду говорит,
За всех душа его болит,
Он много б людям сделать мог,
Но, к сожаленью, он не бог…»
«Слово о полку Кулагове»
Из розыгрышей приведу одну открытку, где я обыгран в качестве
бегемота. Наиболее ценно для меня почти литературное произведение о
«СИМ-СИМ-2». Основанием ему послужила одна из моих привычек крутить волчок во
время раздумья или затяжных и нудных разговоров. Я его соорудил из случайно
найденной иглы и ластика. Этот СИМ-СИМ был сделан в натуральную величину с
батарейкой и работал. Сейчас он хранится у меня на даче. К подарочному описанию
СИМ-СИМ для меня была приложена виньетка со следующей надписью:
Зачем Вам
Волга, Фиат или ЗИМ? Гораздо важнее иметь СИМ-СИМ.
Этот СИМ-СИМ — не заменим! необходим!
Сломался ЗИМ — иди в магазин, сломался СИМ — ну и …
бог с ним!
Текст
описания приводится ниже.
«УТВЕРЖДАЮ»
«Директор предприятия»
п/п НОДЕЛЬМАН
ПАСПОРТ
АППАРАТА СИМ-СИМ-2 №
Э580069002
Дата изготовления 3 октября 1969
г.
Настоящий экземпляр проверен ОТК и
принят представителем заказчика в соответствии с ТТТ № 4Р12К и ВТУ № 2Р87К и
признан годным к эксплуатации.
Предприятие
п/я АУ-580 гарантирует нормальную работу СИМ-СИМа в течение 7—10 лет.
В течение указанного срока предприятие обязано
устранять дефекты, обнаруженные перципиентом в аппарате.
Предприятие не гарантирует возмещение ущерба за
дефекты, происшедшие не по вине предприятия. (Обращение с аппаратом не по правилам,
указанным в Инструкции, небрежное хранение и эксплуатация).
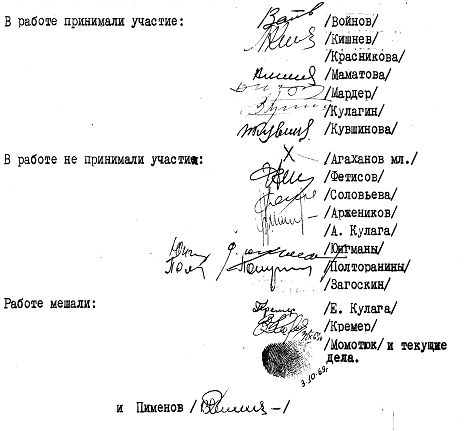
ОПИСАНИЕ АППАРАТА
Назначение
|
Субсенсорный индивидуальный малогабаритный стимулятор
идей и мыслей СИМ-СИМ-2 с успехом заменяет такие применяемые в древности
малоэффективные средства, как вдохновение, откровение и рекомендован НОТ для
работников высокоинтеллектуального труда, основной обязанностью которых
является массовое производство идей и оригинальных мыслей. Принцип работы
Прототипом настоящего прибора послужило примитивное
ручное устройство, которое при испытании в отд. 580 показало некоторые обнадеживающие
результаты. |
|
||
|
Принцип
работы СИМ-СИМ-2 может объяснить единственная самая модная и перспективная
наука «Эвристика», наука, возникшая на стыке психологии, бионики и, конечно,
математики. СИМ-СИМ-2, как и все гениальное, прост! Прост и его
принцип действия: «При воздействии на кнопку управления СИМ-СИМ-2 экстерорецептор
типа ЛАС-тик посылает серию изохронных импульсов, которые посредством
спонтанной перцепции возбуждают прогнозирующие центры индивидуума, что приводит
к восприятию в области криптостезии сонастроенной системы, обеспечивая |
|
|
|
|
обработку
активного восприятия нейрофибриллярным аппаратом индивидуума, конечным продуктом
деятельности которого и является совершенно новая оригинальная идея (мысль),
углубляющая и развивающая трудности, лежащие в основе современного ОБЩЕГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ». |
|
||
УСТРОЙСТВО АППАРАТА
Конструктивно СИМ-СИМ-2 представляет собой настольный
портативный аппарат, в котором внутреннее содержание гармонично сочетается с
элегантностью форм, красотой и четкостью линий и новейшими достижениями
Синтетики,
Эстетики,
Кибернетики,
Арифметики!
СИМ-СИМ-2 состоит из:
|
1. Блока элекропитания типа КБСЛ-0,5 2. Прецезионного передаточного механизма 3. Универсального микроэлектродвигателя ДП-10 4. Штыревой антенны типа ИГЛ-а 5. Экстерорецептора типа ЛАС-тик 6. Головной части (ГЧ) 7. Основания 8. Системы управления (СУ) 9. Пульта управления 10. Внутреннего содержания (п.п. 1, 2, 3, 8) |
|
В
конструкции СИМ-СИМ-2 применены архимикромодули, полупроводниковые кристаллы,
молекулярные ультраусилители и микропечатные схемы.
Полное описание аппарата приведено в техническом
отчете № 580-69-1001 (инв. 270+50, сс на
. . . . . . . листах, Москва
1969 г.)
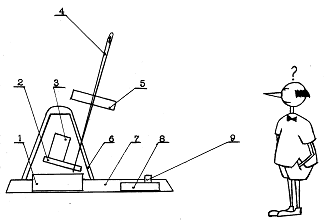
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Подготовка к
работе
Перед включением убедитесь, соответствует ли Ваше
напряжение напряжению внешнему.
Убедившись, что не соответствует, не включайте —
переждите.
|
Перед эксплуатацией: а. Установите аппарат прямо (несколько ниже, чуть
правее) перед собой. б. Сосредоточтесь. Углубитесь. Отрешитесь. Найдите
кнопку СУ. в. Проверьте наличие экстерорецептора. г. Через 2—3 мин не произойдет загорания зеленого
глазка — аппарат готов к работе. |
|
Работа с аппаратом
а. Указательным пальцем правой (или любой другой) руки
(ноги) нажмите кнопку включения СУ.
Примечание: Не занятая рука при этом может свободно лежать на
столе (телефоне, ящике стола, стуле, голове и т. п.)
|
Зеленый глазок опять не загорается. б. Творите. в. Почувствовав легкое утомление, отпустите кнопку
СУ. г. Увидев, что зеленый глазок не горит, не отчаивайтесь
— он не должен гореть никогда! Кроме того СИМ-СИМ-2 можно использовать: — для взбивания коктейлей; — в качестве гнета; — в горячем споре. |
|
СИМ-СИМ-2 не рекомендуется применять, как:
—
лабораторию для
экспрессанализа;
—
зубочистку;
—
хроматограф;
—
Викалин (НО-ШПу).
Уход за аппаратом и техника безопасности
СИМ-СИМ-2
является капризным аппаратом и требует культурного обращения, чуткого отношения
и периодической заправки (перезарядки).
Содержание
СИМ-СИМ-2 в чистоте и опрятности (работники интеллектуального труда должны быть
подтянутыми и собранными!).
Будьте
с ним терпимы, вежливы и обходительны, но не переборщите. Н Е:
—
надевайте ему галстук;
—
пейте с ним на
брудершафт;
—
особенно
расхваливайте начальству;
—
вводите его в
штатное расписание;
—
повышайте его в
должности.
ВНИМАНИЕ!
Будьте
осторожны, не перекрутите (не жадничайте — Ваши мысли от Вас никуда не уйдут!)
Чрезмерное
использование СИМ-СИМ-2 может привести к тому, что Вы сами и Ваши сотрудники
будут завалены грудой идей и мыслей, из-под которых трудно будет выбраться.
При
правильном уходе и соблюдении техники безопасности все будет хорошо!!!
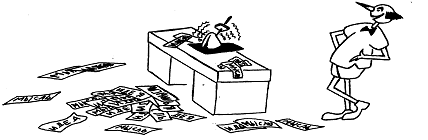
Возможные неисправности и их устранение
|
Неисправности |
Внешние признаки неисправности |
Возможные причины |
Способы устранения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.
Полное отсутствие идей и мыслей |
Не
вращается экстероиндуктор |
а.
Неисправен источник напряжения б. Неисправно внут-реннее содержание |
Сменить
источник питания Срочно
уйти в отпуск |
|
2.
Мелкие идеи и неоригинальные мысли |
Медленно
вращается экстероиндуктор |
Неисправно
внутреннее содержание ГЧ |
Исправить
внутреннее содержание |
|
3.
Стандартные (тусклые) идеи и мысли |
Наблюдается
биение экстероиндуктора |
Разбаланс
системы стабилизации |
Исправить
систему стабилизации |
|
4.
Открытие законов типа: «Чем
больше воды, тем воды больше» (Закон Полторанина) |
Наблюдается
чрезмерная вибрация аппарата |
Нарушение
сонастроенности экстерорецептора с перципиентом |
Немедленно
выключить СУ |
|
«Чем
дырка больше, тем ее легче заметить» (Эффект Кремера) |
Слышится
комариный писк |
Несоответствие
внешнего напряжения с внутренним |
Устраниться
своевременно от деятельности |
|
«Чем
больше испаряется вещества, тем больше его паров» (правило Загоскина) |
СИМ-СИМ-2
«ходит» по столу |
Развинтился,
разболтался |
Срочно
отправиться в ближайшую гарантийную мастерскую (Адреса мастерских прилагаются) |
|
5.
Обнаружено отсутствие СИМ-СИМа |
Не
видно на месте |
Украли
завистники, позаимствовал начальник БТЗ |
Вывесить
объявление с обещанием приличного вознаграждения |
АДРЕСА МАСТЕРСКИХ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА
АППАРАТА СИМ-СИМ-2
по состоянию на 3 октября 1969 г.
1. Москва. Ул. 25 Октября, маст. «Славянский базар»
2. Москва. Ул. Горького, маст. «Якорь».
3. Оренбург. Ул. Кирова, маст. «Урал».
4. Ленинград. Невский проспект, маст. «Нева».
5. Киев. Крещатик, маст. «Варенiкi”.
6. Париж (Paris). Елисейские поля, маст. «Flombom». (это во Франции)
7. Voronegh (Воронеж). Пл. Ленина, маст. «Воронеж».
8. Parchuschkowo (rencu¦ko:¦j)
ОТЗЫВ О РАБОТЕ АППАРАТА СИМ-СИМ-2
№ Э580069002
|
1.
Аппарат СИМ-СИМ-2 производства частно-государственного кооперативного
предприятия п/я АУ-580 (лаборатория КВВК) инд. № Э580069002 |
|
|
2.
Когда и кем приобретен . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
3.
Время (в %) участия в творческом процессе
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
4.
Количество и качество интеллектуального брака . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
|
|
5.
Семейное положение владельца (указать девичью фамилию) . . . . . . . . . . .
. |
|
|
6.
Размер ботинок владельца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
7.
Имеете ли черный галстук (бабочку) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . |
|
|
8.
Как себя чувствуете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
9.
Наш адрес: Москва Д-290, «Лес» п/я АУ-580 |
|
|
10.
Действуйте. |
|
ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
|
Стра-ница |
Строка |
Напечатано |
Следует читать |
По чьей вине произошла опечатка |
|
4 |
Рис. |
|
|
По
вине редакции |
|
6 |
2-я сверху |
Настольный |
Застольный |
Вкралась самостоятельно |
|
7 |
7-я сверху |
. . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . |
Проявление эффекта Дальтона |
ВЕДОМОСТЬ ГАРАНТИЙНЫХ СРОКОВ
«Ведомость гарантийных сроков» ко дню рождения,
выполненная на служебных бланках, стала фирменным поздравлением не только у нас
в отделе. Нодельман и Востриков часто прибегали к ней, когда им надо было
кого-либо поздравить. Эти служебные ведомости были выходным документом нашего
отдела, когда мы устанавливали гарантийный срок на тот или иной агрегат, узел
или изделие после окончания их отработки.
|
Единственный
экземпляр |
|
Изделие «ЕЛЬКИН-50» .
(индекс)
Ведомость
гарантийных
сроков
580-00000ВГС .
(обозначение)
Гарантийные сроки службы
изделия,
агрегата, узла «ЕЛЬКИН-50» .
(индекс)
Общий срок На уровне лучших мировых образцов, но не
менее 10 лет .
В отапливаемом хранилище: типа
«Кабинет». Суммарно не более 1/3 от общего срока службы
.
В неотапливаемом хранилище Не
гарантируется
.
В полевых условиях в незаправленном состоянии,
в том числе и на транспортных средствах Гарантируется в течение всего срока службы
при соблюдении условий эксплуатации .
В полевых условиях в «заправленном» состоянии Срок
зависит от состояния здоровья и дозы «заправки»
.
В сооружении типа «В» в «заправленном» состоянии Срок
не устанавливается. Хранение в сооружении типа «В» не рекомендуется
.
Условия службы, для которых установлен гарантийный
срок, изложены на стр. 3.
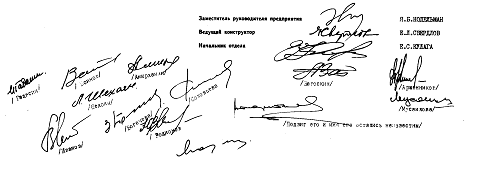
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ТИПА «ЕЛЬКИН-50»
1. Изделие типа «Елькин-50» (в дальнейшем изделие)
допускается к эксплуатации только в комплекте с самоориентирующейся головной
частью, проверенной и аттестованной в ВИА им. Дзержинского и всей последующей работой
и службой.
2. Эксплуатация изделия должна производится при следующих
внешних условиях:
-
температура
окружающей среды — благоприятная, дружеская;
-
давление окружающей
среды — в разумных пределах, не выводящих изделие из состояния равновесия.
3. Транспортировка изделия может производиться в течение
всего срока эксплуатации на всех видах воздушного, морского, железнодорожного и
автомобильного (в том числе личного) транспорта. При этом наиболее рекомендуемым
видом является наземная транспортировка на «своих двоих», как наиболее
экономичная и полезная.
4. В процессе эксплуатации изделия допускается
кратковременное воздействие следующих слабых внешних воздействующих факторов
(ВВФ):
-
морского соляного
тумана с периодическими погружениями (без затопления);
-
лучистого и
корпускулярного излучения солнца. При этом допускается умеренное изменение (потемнение)
цвета наружного покрытия изделия;
-
загазованной
среды в виде табачного дыма (на совещаниях и заседаниях) и паров некоторых легкоиспаряющихся
жидкостей (на банкетах и других симпозиумах);
-
атмосферных
осадков и низких температур. В этих случаях изделие обязательно должно находиться
в зачехленном виде.
5. В случае сильных воздействий, не предусмотренных
нормальной эксплуатацией ВВФ (землетрясение, резкий звонок сверху, выигрыш в
спортлото, падение звезды с неба на изделие и пр.), окружающим персоналом
(женой, сотрудниками и др.) должны быть приняты срочные меры по приведению изделия
в рабочее состояние.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Настоящие гарантийные сроки установлены для
указанных выше условий с проведением ежегодных регламентных проверок и
технического обслуживания силами МО и промышленности.
2. Установленные
гарантийные сроки не распространяются на съемное оборудование (очки и пр.), а
также на чехлы и укупорку.
НА ПЛОТИЛИИ «МАРКИЗА КРАКУКУ»
Товарищеские отношения в отделе не могли заканчиваться
только на работе. Для некоторой части сотрудников они продолжались и вне работы,
а затем переросли в дружбу семьями.
Во главе этого коллектива, естественно, стал Леонид
Кишнев. Дружба эта сопровождалась не только совместными торжествами и сборами
по различным семейным торжествам у кого-либо. Кишнев организовал семейный поход
на плотах по реке Унже на юге Архангельской области.
В поход пошли на двух плотах шесть семей с детьми от
4-х до 12-ти лет. Так была образована плотилия. В самом начале похода еще до отплытия
придумали ее название по первым буквам фамилий участников: Марченко Леонид и
Валентина и их сын Олег дали первый слог — «Мар», Кишневы Вера и Леонид и их
сын Сергей — «Ки», ну, а дальше «За» — Захаров без семьи, «Кра» — Красниковы
Зоя и Виктор и их сын Сергей, далее первое «Ку» — Куниковы Жанна и Юра и их
дочь Наташа, и замыкает второе «Ку» — Кулаги Аня и Женя и их сын Игорь. В итоге
получилось — «МарКиЗа КраКуКу».
Перед выходом в плавание, после утверждения названия,
женщины из подручных средств сшили флаг плотилии, который затем ежедневно
торжественно с построением поднимался по утрам и опускался с заходом солнца.
Этот флаг после похода стал ритуальным символом на многие годы для нас. Каждый
наш сбор по любому поводу проходил под этим знаменем и каждая встреча,
отмечалась звездой и датой на полотнище знамени. Затем уже в 1982 году решили
звезд больше не ставить, а знамя сохранить как реликвию. Кроме знамени был
учрежден и орден «МАРКИЗА КРАКУКУ», который собственноручно изготавливал Виктор
Красников по своему же эскизу. Далеко не все члены плотилии удостоились этой
высокой награды. Его получили только Валентина, Аня и Георгий Никитич
Холостяков — отчим Юры Куникова. Георгий Никитич был у нас «Почетным Адмиралом»
плотилии и принимал активное участие в ее жизни.
Поход прошел отлично и изобиловал множеством различных
комических и не очень комических ситуаций. В походе каждая семья по очереди
дежурила и готовила пищу на кострище, оборудованном на одном из плотов.
Как-то вечером меня послали за молоком в деревню за
несколько километров от стоянки. На пути обратно разразилась необычайно сильная
гроза и я под ливнем донес молоко, прикрыв ведро большим листом лопуха. Когда начали
варить кашу, молоко тут же свернулось. Я с трудом отбился, доказывая, что я
ведь брал парное молоко сразу же после дойки коровы тут же при мне. Меня
выручила Валентина, будучи хорошим химиком объяснила всем, что в грозу от
сильно озонированного воздуха молоко быстро окисляется и я был реабилитирован.
Ведро молочной каши вылили в реку, а детям сварили простую кашу на воде.
На следующий день дежурили Куниковы, а мы все ушли в
лес за грибами и ягодами. Придя к обеду, уже на подходе мы увидели, что костер
не дымится, а кашевары возятся у надувной лодки, которую мы взяли с собой. При
виде нас их возня переросла в какую-то папуасскую пляску всех троих. Обедом и
не пахло, а вся лодка была доверху забита рыбой, каждая размером в пол-локтя.
Куниковы гикали и визжали от радости.
Оказывается, на нашу выброшенную накануне вечером кашу
собралась рыба со всей реки. Родители посадили Наташу удить рыбу, чтобы не
мешала им готовить обед, но, увидев, как
Наташа удачно ловит, родителям стало не до обеда. Они вместе с Наташей стали
таскать рыбу одну за другой. Хотя мы и остались без горячего обеда, но при виде
такого рыбьего обилия, тоже остались довольны и были с рыбой на несколько дней,
а главный рыбак Захаров был посрамлен, поскольку у него рыба не ловилась.
Возвращались
мы домой на пароходе по Волге и во время прощального ужина в ресторане наш
пароход, очевидно, выписывал пируэты не хуже чем «Севрюга» в кинофильме
«Волга-Волга» под командованием лихого капитана. А наш пароход «пируэтил»
потому, что капитан, старпом и штурман не вылезали у нас из-за стола. Периодически,
все же, поочередно они бегали наведаться, как они говорили «на мостик», посмотреть
куда мы плывем. Эта поездка сплотила нас на многие годы. Каков дух царил у нас
можно судить по «Указу» который был выпущен по случаю учреждения ордена
«МАРКИЗА КРАКУКУ».
УКАЗ
СОВЕТА СТАРЕЙШИН ПЛОТИЛИИ
«МАРКИЗА КРАКУКУ» ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ОРДЕНА — «МАРКИЗА КРАКУКУ»
Принимая во внимание великое историческое значение
героического пути, пройденного плотилией «МАРКИЗА КРАКУКУ» и огромное влияние
деяний плотилии, оказываемое на воспитание молодого поколения и старого
поколения, совет старейшин повелевает
учредить нагрудный Знак:
ОРДЕН «МАРКИЗА КРАКУКУ»
Орден состоит из круга (основания), олицетворяющего
земной шар с надписью на нем названия плотилии, маршрута и года следования,
сверху на круге находится эмблема путешественников — роза ветров, в центре которой
помещается золотой круг — символ солнца с выгравированным на нем вензелем —
инициалами награжденного.
К награде представляются как отдельные лица так и лица
вместе с туловищем, руками и ногами.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАГРАЖДЕННОГО
Награжденные орденом «МАРКИЗА КРАКУКУ» обязаны:
а) быть при наградах на парадах и торжественных приемах,
б) гордиться, но не зазнаваться,
в) сохранять его (орден) для потомства.
Награжденные имеют право:
а) хранить деньги в сберегательных кассах,
б) пользоваться всеми видами транспорта,
в) требовать от капитана плотилии повышения в чине,
должности, окладе и других земных и внеземных благ,
г) собирать грибы, ягоды, орехи и другие дары леса без
обложения налогом,
д) на незапланированный тост,
е) купаться в костюме Адама (Евы), как в присутствии,
так и без оного,
ж) вписать внеочередную Звездочку на полотнище
знамени,
з) на еще один незапланированный тост,
и) на многое, многое другое.
Как видно из текста «Указа» он во многом созвучен
тому, что наблюдалось и в отделе, поскольку во главе всего этого стоял один и
тот же человек — капитан плотилии Леонид Кишнев.
Сейчас Кишневы, Валентина Марченко и Виктор Красников
на пенсии. Женщины растят внуков, а Виктор пишет воспоминания. Он еще во время
войны стал Лауреатом Сталинской премии и был награжден орденом Ленина как один
из организаторов и активный участник молодежного движения на нашем родном
заводе № 23 за высокую производительность и качество выпускаемых самолетов для
фронта. Он был тогда слесарем и ему есть что рассказать.
Юра Куников, Леня Марченко и я еще работаем. Аня и Зоя
безвременно ушли в мир иной. А Георгий Никитич и мать Юры Наталья Васильевна
были зверски убиты в своей квартире из-за орденов Георгия Никитича, которых у
него, кажется, было на один меньше чем у Жукова. Причем были дорогие
иностранные ордена. В тот день Наталья гостила у Холостяковых, спала в дальней
спальне и ничего не слышала как убивали деда и бабушку. Так она осталась жить и
теперь растит троих детей, будучи женой известного телеведущего Александра
Любимова. Убийц вскоре нашли и судили открытым судом. Это был громкий процесс в
Москве и Жанна не раз выступала по ЦТ в связи с этим процессом. Заканчивал
войну вице-адмирал Холостяков Г. Н. командующим Дунайской военной флотилией и
принимал участие в освобождении всех придунайских государств. А прославился он
в обороне и взятии Новороссийска. Под его личным командованием готовился и
высаживался десант на Малую Землю. Он же и нашел на должность командира десанта
Куникова Цезаря. После его гибели Георгий Никитич со временем женился на вдове
Цезаря Куникова. Потом у них появился сын Гарик, а Юра стал для него приемным
сыном. Все это описал Георгий Никитич в своей книге «Вечный огонь» кроме,
конечно, деяний нашей плотилии, что я и восполняю. Перед смертью Георгий
Никитич, как чувствовал, просил разрешения в ЦК КПСС, чтобы его похоронили если
и не рядом с Куниковым Цезарем, которого он послал на смерть, то хотя бы в дорогом
для него Новороссийске. Но всевышнего повеления не последовало и Георгий
Никитич вместе с Натальей Васильевной похоронены на Кунцевском кладбище в
Москве.
Здесь приведены описания некоторых случаев похода
группы наших «плотогонов». Но на предприятии в то время сложились и другие туристические
группы активного отдыха, такие как байдарочники у проектантов и расчетчиков.
Они могли бы так же многое рассказать о своих походах. Один из наших ветеранов
Опарин И. Д. стал даже мастером спорта СССР по туризму и открыл не один
туристический маршрут в стране. Он, наряду с большой производственной работой,
вел большую лекционную работу в обществе «Знание» — было когда-то такое. А
сейчас он член Киевского райкома КПРФ.
Опарин в течение многих лет организовывал на
предприятии автобусные экскурсии по стране. К сожалению, мне довелось
присоединиться к ним только в последние годы. Это очень хороший
развлекательно-познавательный отдых. Мы ежедневно посещали один-два музея и побывали
во многих интересных местах. Одно из известных исторических мест, где мы
побывали, приводится на цветной вкладке.
Однако, продолжим разговор на технические темы. Их еще
много впереди.
ЗАЩИТА ОТ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ
СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Защита людей и технических сооружений от ядерного
удара прошла свой путь развития и имеет свою историю, полную различных нюансов
и событий, очевидно, не менее интересных и интригующих, чем создание самой
ядерной бомбы. На разработку систем такой защиты в различных областях техники
затрачено немало усилий и средств. Многим знакомы массивные двери на станциях
метро внизу, которые являются одним из важных средств защиты от ядерного удара.
Если созданию ядерного оружия посвящено немало историографических, мемуарных,
технических и различных других публикаций, то по вопросам создания средств
защиты от него, практически, ничего не опубликовано, да пожалуй и не написано.
Возможно настоящие записи являются одними из первых свидетельств о создании
некоторых средств защиты ракет стратегического назначения от ядерного
воздействия на них.
Ученые атомщики при создании ядерного оружия
одновременно начали изучать и характеристики поражающих факторов, сопутствующих
ядерным взрывам. По мере развития этой техники, развивались средства и методы
изучения поражающих факторов. Происходило постоянное накопление все новых и
новых сведений в этой области. Но техники овладевали этими знаниями не сразу.
Так, например, у нашего самолета 3М, только после
проведения ядерного бомбометания, задние хвостовые кромки были окрашены в
ярко-белый цвет, чтобы увеличить их отражательную способность при воздействии
светового импульса ядерного взрыва. Задние кромки окрашивались потому, что при
взрыве самолет уже уходил от его эпицентра. А о защите экипажа и самолета от
других факторов, таких как проникающая радиация и электромагнитный импульс,
тогда еще и не думали.
Королевская ракета «семерка» была принята на
вооружение сразу же после ее создания и поставлена на боевое дежурство на
открытом наземном старте. Тогда мало думали об ударной волне при наземном ядерном
взрыве, которая легко уничтожала эту ракету при взрыве заряда на десятки
километров от нее. После этого появились ракеты с подземным шахтным стартом с
тем, чтобы упрятать ракету от наземной ударной воздушной волны. При этом
ядерный заряд мог взорваться на достаточно близком расстоянии от шахты.
По мере развития техники, точность попадания ракет с
ядерным зарядом выросла настолько, что они попадали в шахту при отклонении на
расстоянии нескольких сот метров от нее. В этой ситуации решающим оказалось сейсмическое
ударное воздействие подземной ударной волны от ядерного взрыва, возникающей в
грунте.
Пока были разработаны технические средства защиты от
сейсмического воздействия на ракету и шахтную пусковую установку, точность
попадания еще больше выросла, а также были разработаны новые типы ядерных
зарядов, обладающих увеличенной мощностью импульса проникающей радиации и
электромагнитного импульса. Эти два поражающих фактора теперь стали определяющими.
В общем, шла классическая борьба «меча и щита».
Поскольку у меня в отделе
была группа ядерщиков, то мне и поручили задачу обеспечения защиты наших ракет
от электромагнитного импульса и проникающей радиации ядерного взрыва.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИМПУЛЬС
Электромагнитный импульс (ЭМИ) возникает от
электризации воздуха частицами проникающей радиации, выделяющимися из ядерного
заряда при его взрыве. Он воздействует на электрические системы, выводя их из
строя, за счет перенапряжения в цепях, возникающего от его воздействия на них.
Это воздействие может сказываться на расстояниях в десятки километров от места
взрыва.
Для исследования стойкости электронных систем ракеты
нужно было изучить экранирующие свойства корпуса ракеты, а также определить
величину и параметры полей, проникающих в корпус, которые и будут
воздействовать на электронную аппаратуру. Проводить эти исследования нужно было
на специальных стендах, обладающих сложной аппаратурой для воспроизводства
мощных электромагнитных импульсов, а также аппаратурой для регистрации вторичных
возникающих наводок и полей. Нам было понятно, что такие базы должны были быть
в институтах, занимающихся грозозащитой, поскольку природа воздействия ЭМИ и грозы
близки между собой. Разница только в мощности и в частоте импульса. Я поручил
заниматься ЭМИ своему сотруднику Иванову
В. Н. и первой же задачей поставил — объездить все родственные НИИ в стране и
собрать все данные о всех имеющихся испытательных базах с тем, чтобы
определиться, какие из них будут пригодны для наших исследований и какие
доработки нужно будет провести на них для наших условий испытаний. Он это
оперативно выполнил. Мы отобрали несколько баз и разработали совместно с ними
проекты доработки баз под наши требования. За пару лет мы провели все эти
доработки, изготовили объекты испытаний и провели эти испытания. Проведенные
исследования послужили основой для разработки комплекса рекомендаций конструкторам.
Мы были первыми у нас в стране, кто провел такие объемные и всесторонние
исследования по воздействию ЭМИ на ракеты. Работа была проведена на хорошем
научном уровне и Иванов В. Н. по этой работе написал и успешно защитил кандидатскую
диссертацию.
В разгар этих работ меня пригласили в министерство и
ознакомили с материалом, поступившим к ним из Главного разведуправления. Это
был альбом установок США для испытаний ракет на воздействие ЭМИ. Он был
составлен весьма профессионально. Вначале была дана карта их расположения по
стране, затем фотографии каждой со спутников, а затем фото, схемы и таблицы с
характеристиками каждой испытательной базы. Всего было что-то около семнадцати
испытательных баз. У нас, конечно, не было ничего подобного. Мы провели
испытания на «подручных» средствах и они позволили решить задачу. На создание
даже одной подобной базы нужны были громадные средства и значительное время. У
нас не было ни того ни другого.
Я удивился мастерству и мужеству людей, собравших эти
сведения. В печати их, конечно, не публиковали и собрать столько данных стоило
немалого труда. Это с одной стороны. А с другой стороны мне стало их жалко, поскольку
их труд практически ничего нам, специалистам, не дал кроме профессиональной
зависти к американским специалистам, обладавшим такой шикарной испытательной
базой. Но мы и на своей справились.
Вот сейчас безответственные писаки поднимают шум о
том, что атомную бомбу наши ученые разработали по материалам, добытым разведкой,
т. е. попросту украли ее у США. Случай с альбомом установок США по испытаниям
на ЭМИ показывает, что если по ним наша разведка составила такие данные, то уж
по атомной бомбе они наверняка составили не один такой альбом, а по содержанию
еще наверное похлеще. Но эти данные показывают только то, что советские ученые
и специалисты, решали научные и технические задачи правильно. И не более того.
А идем мы, как правило, своим путем. Наука и техника позволяют решать одни и те
же задачи разнообразнейшими путями. Поэтому, такая титаническая работа нашей
разведки не столько помогает нам специалистам, сколько помогает убедиться
высшим руководителям, что мы, специалисты, решаем задачу правильно. Ну, а кроме
того, такие добытые материалы говорят о высочайшем классе разведки, которая у
нас была.
ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИАЦИЯ
Определение
радиационной стойкости материалов является весьма важным для реакторной
и атомной промышленности. Без этих знаний нельзя было бы приступить к
промышленному строительству в этих областях. Поэтому в стране было создано ряд
испытательных центров радиационного материаловедения. Мы частично использовали
эту базу для изучения стойкости материалов в космосе. Эти базы оснащены различного
рода реакторами и ускорителями, по своим характеристикам отвечающим уровням и
спектрам излучений имеющим место в атомной промышленности. Но ядерный взрыв —
это совсем другое.
В процессе цепной реакции мощность, спектр и форма импульса
излучения совсем другие. Чтобы использовать материаловедческую радиационную
базу, разрабатывались методики пересчета результатов испытаний одним импульсом
на другой, но им было мало веры.
В это время к нам пришел работать в отдел уволившийся
в запас заместитель начальника специальных войск ракетного стратегического
вооружения Бородулин Николай Петрович. Пришел полковником несмотря на то, что
был долгое время на должности генерал-лейтенанта и участвовал в испытаниях
нашей первой атомной бомбы. Знающих людей и в армии, очевидно, не очень жалуют
так же, как и везде.
Эти «спецвойска» занимаются эксплуатацией головных
частей стратегических ракет с ядерными зарядами и являются «государством в государстве»
в ракетных войсках. Они живут по своим особым законам и правилам и никому не
подчиняются, а только напрямую Главкому. Ядерное оружие у нас находится под особым
контролем и его эксплуатация находится в руках надежных и знающих людей типа
Бородулина. Придя к нам, казалось бы с командной должности в армии, он очень
быстро перестроился на исследовательскую работу, прекрасно разобравшись в ее
методологии, и творил у нас «чудеса» в своем деле. Как потом выяснилось, его
хорошо знали не только в военных кругах но и среди специалистов атомной
промышленности.
Я попросил Бородулина проехать в Арзамас-16, который
был тогда еще сверхсекретным, и ознакомиться с их ускорителями и реакторами. Он
быстро организовал себе допуск туда и привез полную характеристику их испытательной
базы, которая нас интересовала. Я удивился широте его кругозора и практичности.
Он привез не только характеристики излучательных установок, но и, например,
даже размеры дверных проемов, грузоподъемность и высоту до кранбалок и много
других разнообразных мелочей, о которых я и не просил, но которые потом нам
очень пригодились.
К этому времени Военно-промышленная комиссия выпустила
постановление, коим обязывала нас провести оценку радиационной стойкости ракет
при ядерном взрыве, для чего предписывалось провести комплекс испытаний на облучательных
установках центров материаловедения. Это решение готовилось без нашего участия
и было для нас полной неожиданностью. Мне было ясно, что эта экспериментальная
база совсем не подходит для определения радиационной стойкости ракет.
Наиболее уязвимым методом при радиационном воздействии
у ракеты является ее электронная аппаратура. И подходить к ее испытаниям
необходимо совсем с иных позиций по сравнению с радиационным материаловедением.
Мы разработали свою программу, в основе которой лежало определение
работоспособности функционирующей аппаратуры во время импульса радиационного
воздействия с требующимися характеристиками. В наибольшей части этим
требованиям отвечала только испытательная база Арзамаса. Мы знали это уже
заранее по результатам поездки Бородулина туда.
Эту программу я доложил в ВПК и поколебал их
уверенность в правильности выпущенного ими решения. Из ВПК последовало указание
в Арзамас-16 рассмотреть нашу программу и выдать свое заключение.
ПОЕЗДКА В АРЗАМАС-16
Несколько слов о том, почему я решил кардинально изменить
направление всех исследований по определению радиационной стойкости ракет и
перенести весь центр тяжести исследований на функциональную электронную аппаратуру.
Известно, что радиоэлектронные элементы наименее радиационностойки и их отработка
ведется на материаловедческих радиационных установках. Приборы с этими
элементами не могут поместиться в реакторной зоне этих установок и параметры их
импульсов не во всем соответствуют характеристикам излучений при ядерном
взрыве. Мы уже знали, что в наилучшей мере этой задаче отвечала экспериментальная
база Арзамаса, где, к тому же, можно было установить и запитать проверочную
аппаратуру, регистрирующую работоспособность бортовой испытываемой аппаратуры
во время импульса и после его воздействия. Вот под эту базу мы и разработали
свою программу.
В Арзамас выехали Дьяченко, Бородулин и я. Это был мой
второй выезд в ядерные центры страны. Первый раз мне довелось поехать в начале
60-х годов в Челябинск-40, когда мы создавали новый корпус головной части из
неметаллических материалов, с целью согласования требований к корпусу, где
располагался ядерный заряд. Тогда я и увидел и стоял у этого знаменитого
смертоносного ныне широко известного озера. Тогда нам, естественно, ничего не
говорили о том, что у них была страшная авария, а озеро сильно радиоактивное.
Сейчас это озеро на две трети обезврежено и работы продолжаются. Если первый
раз я ехал в ядерный центр по вопросам создания ядерного оружия, то почти двадцать
лет спустя я ехал уже по вопросам защиты от него. Получилась как бы
классическая ситуация — принимал участие в создании зла, вот теперь и защищайся
сам от него. Но не только я оказался в такой ситуации. Весь мир и политики
увязли в этой проблеме, определившей во многом политическое развитие мира в ХХ
веке.
В Арзамасе-16 нас принял сам его руководитель один из
патриархов создания атомной бомбы академик, трижды Герой Социалистического
труда Харитон Юлий Борисович в своем просторном кабинете. Он сразу же,
пригласив сесть за стол заседаний, приступил к делу. Он положил на стол свой
чемодан с секретной документацией и достал письмо из ВПК. Это меня крайне
удивило. Руководитель такого ранга, а носит с собой документы в чемоданчике как
и все мы. Эти чемоданы в конце работы мы опечатываем своими личными печатями и
сдаем на хранение. Никто уже без меня не мог вскрыть чемодан. Соблюдение этих
правил и со стороны Харитона, говорило, что это был весьма пунктуальный и
организованный человек.
Достав письмо, безо всяких вступительных и других
разговоров, он очень мягко приступил к делу. На встрече присутствовал от них
ряд специалистов, в том числе и начальник испытательного комплекса
член-корреспондент Павловский Александр Иванович, на вотчину которого мы и
посягали. На совещании я доложил техническую сторону нашей программы и содержание
нашего предложения об организации у них таких испытаний. Совещание свелось к
взаимному ознакомлению нас с их испытательной базой, а их с нашей аппаратурой.
Мы, конечно, промолчали, что во многом нам уже известна их испытательная база.
На следующий день нас водили по самим установкам и показывали все уже на месте.
Это было весьма ново и интересно для нас. На одну из них мы ехали довольно
долго по лесистой местности. На въезде к этой установке стояло невзрачное
одноэтажное здание типа санпропускника времен второй отечественной войны. Нам
сказали, что в этом здании собирали первую нашу атомную бомбу. На мое замечание
о том, что достаточно далеко отнесли это здание от основной территории, мне
ответили, что собирали-то атомную бомбу. Я пожелал им, чтобы они хоть
самодельную мемориальную доску установили на этом здании с фамилиями тех, кто
своими руками собирал в этом здании нашу первую атомную бомбу.
На заключительном заседании наша программа была
принята и оформлены необходимые совместные технические документы на проведение
у них испытаний нашей аппаратуры. Вечером хозяева устроили товарищеский ужин,
на котором я узнал, что мы с Павловским однокашники. Он закончил бы ХАИ на год
раньше меня, но до этого он перешел в университет на вновь образованное
отделение, как тогда называли «строения вещества». В конце 40-х годов нужно
было быстро подготовить инженерные кадры для работы во вновь создаваемой
атомной промышленности и в университете организовали это отделение. Туда
отбирали студентов третьего и четвертого курсов трех институтов Харькова, в том
числе и из нашего ХАИ. Предлагали и мне перейти и еще нескольким моим
товарищам, но никто из нашего третьего курса не пошел, а с четвертого пошло три
человека. Два из них вскоре после окончания университета вернулись. Один из них
впоследствии стал ректором университета, а второй учителем физики в школе.
Третий затерялся и вот теперь обнаружился. В институте мы с ним не были
знакомы, но было много общих знакомых, с которыми я работал по самолету ХАИ-12.
После ужина почти всю ночь мы с ним проходили по их городку, который теперь
называется Сарово по имени монастыря, в котором вначале размещался этот ядерный
центр. Много он тогда рассказал о себе и своем деле, а я ему о наших общих
знакомых, о которых он почти ничего не знал. Показал коттедж где жил Сахаров. Я
рассказал, как в 60-х годах я записал по «голосу» его первое письмо в ЦК и
высказал свое неодобрение тех идей, которые тогда поднял Сахаров. Слишком они
были нежизненными, формулировались и ставились в полном отрыве от жизни и походили
больше на политизированную демагогию, чем на конструктивные предложения. Да и
общеполитическая постановка вопросов у него была тогда весьма расплывчатой и
неясной и далеко не такой фундаментальной, как он ее формулировал уже потом к
началу 80-х годов. Павловский в этом
согласился со мной, но научную квалификацию и человеческие качества Сахарова он
ценил очень высоко. Мы расстались друзьями, хотя ни разу после этого не
встречались.
ИСПЫТАНИЯ В АРЗАМАСЕ-16
Привезенные документы мы доложили в министерстве. ВПК
менять свое решение не стала, сообщив, что замена установок и выработка
программы испытаний дело министерства. Это было сделано с тем, чтобы не
задерживать финансирование, которое уже шло по этому решению.
Министерство собрало совещание разработчиков
аппаратуры, ознакомило их с нашими документами и поставило задачу на проведение
этих испытаний, что и было оформлено соответствующим приказом по министерству.
Согласно нашему плану, нужно было поставить аппаратуру, находящуюся на борту
ракеты как объект испытаний, по три комплекта каждой, а также аппаратуру для
запитки бортовой аппаратуры и регистрации ее функционирования. Всю эту
аппаратуру выделяли Ракетные войска из различных объектов, расположенных по
всей территории страны. Ее нужно было доставлять в Арзамас различными видами
транспорта в зависимости от месторасположения источника поставки. Это встало,
казалось, непреодолимым препятствием, поскольку всем. кто будет везти
аппаратуру, необходимо будет, по установившимся правилам, пройти громадную
процедуру оформления допуска не только на людей но, главное, получить
реквизиты, т. е. транспортные адреса Арзамаса, по всем видам транспорта.
После долгих дебатов на высоких уровнях было принято
решение о следующем порядке выполнения этих операций. Реквизиты будет выдавать
только наш отдел каждому, кто повезет аппаратуру, не сообщая истинное наименование
адресата. Мы будем сообщать о едущих в Арзамас и там их будут встречать
согласно тех фамилий, которые мы им сообщим.
На все работы по доставке и проведению испытаний нами
был разработан сетевой график, который был утвержден министерством. Все эти
работы от нас координировали под моим руководством Бородулин и Аржеников.
Отставные полковник и подполковник очень четко вели эти работы. Аппаратуру
везли автотранспортом, железной дорогой и самолетами. Всего было доставлено
пять тонн испытываемой аппаратуры и двадцать пять тонн поверочной аппаратуры. В
Арзамасе-16, когда начали принимать аппаратуру в таком количестве, пришли в
ужас. Они не представляли, что все это выльется в такое грандиозное
мероприятие. А тут еще «прокол» произошел с экипажем одного из прибывших самолетов.
Нам ведь запрещалось сообщать истинное наименование адресанта, куда везут
аппаратуру. Вот, на одном прилетевшем самолете оказался не тот экипаж, который
мы ранее сообщили в Арзамас, а один член экипажа вообще был безо всяких документов.
Там ведь не знали, куда летят, а им потребовалось заменить экипаж, что они и
сделали, не поставив нас в известность. Вся операция по доставке была приостановлена
и мы долго «отмывались» в КГБ, пока все не выяснилось. Вот тут в Арзамасе и
заколебались — стоит ли им продолжать связываться с таким громоздким
мероприятием. Все повисло на волоске, но, слава богу, все кончилось миром и мы
продолжили операцию.
Мы завезли аппаратуру, завалив ею все проходы и
свободные места, провели испытания и началась новая эпопея с истолковыванием полученных
результатов и выдачей заключения о величине фактической стойкости аппаратуры.
КОМИССИЯ ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ
К моменту
окончания наших испытаний, в ЦНИИМАШ расчетным путем определили
стойкость аппаратуры и установили, что она недостаточно стойка от воздействия
проникающей радиации ядерного взрыва. Они еще не знали результатов наших
испытаний и провели качественную сравнительную оценку на основании множества
ранее проведенных испытаний радиоэлектронных элементов на радиационных материаловедческих
установках. Эти качественные оценки еще не давали прямого ответа на вопрос о
величине фактической стойкости аппаратуры ракеты, но ими уже было выдано
заключение о необходимости усиления радиационной защиты всех шахтных пусковых
установок, находящихся на боевом дежурстве.
Это заключение горячо поддержал наш министр Афанасьев
С. А. и стал активно продвигать его в верхах. Против этого выступила ВПК,
считая, что явных доказательств нет в необходимости усиления радиационной
защиты шахт и нужно подождать результатов наших испытаний.
Как всегда, при
расхождениях во мнениях в важных вопросах, ВПК была создана межведомственная комиссия
под председательством нашего заместителя министра Ванина Сергея Сергеевича, но
оперативно за нашими работами следил другой заместитель, мой старый знакомый по
длительному хранению — Хохлов. Заместителем Ванина назначили заместителя
начальника Управления ракетных войск генерал-лейтенанта Русанова Виссариона
Дмитриевича. Я с ним сталкивался по работе, когда он был еще старшим офицером и
мы хорошо знали друг друга. Я вошел в состав комиссии как представитель
Генерального разработчика ракетного комплекса.
Вновь начались уже третьи «ракетные дебаты» и опять
между нашим министром и ВПК. Опять противоборствующие стороны стояли на тех же
позициях. По-прежнему ВПК не хотела идти на новые значительные материальные
затраты, а министр по-прежнему стоял за поддержание высокой боевой эффективности
созданного его министерством основного оружия страны. Внешне это опять носило
склочный характер, а в принципе это нормальное и полезное явление в таком
большом деле. В этом противостоянии двух противоположных технических позиций,
каждая из них становилась все более очевидной. Одна в своей правоте, а вторая в
своей слабой доказательности. Не зря же говорят, что в споре рождается истина.
Но, к сожалению, эти технические споры переносятся, как правило, на личностные
отношения с тяжелыми последствиями для некоторых участников этих споров и это
является самыми большими издержками этих нужных технических противостояний, не
говоря уж о том, что подчас уже и не технические соображения принимаются в
основу принимаемых решений.
Таким образом, комиссия становилась техническим
арбитром в этом споре и критерием для принятия ею решения было признано необходимым
получение результатов наших испытаний в Арзамасе-16.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПЫТАНИЙ
Получаемые результаты по стойкости аппаратуры в
Арзамасе при воздействии на нее импульсных радиационных излучений соответствовали,
в основном, условиям их выделения непосредственно из ядерного заряда при его
взрыве. После прохождения этих излучений через конструкцию шахтных сооружений
изменяется форма импульса и он как бы растягивается по времени и снижается по
величине.
В процессе испытания мы обнаружили, что наиболее
опасным для аппаратуры является именно такой растянутый импульс, когда его длительность
совпадает со скоростью быстродействия электронной аппаратуры. При выравнивании их
скоростей, элементарным частицам ядерного излучения становится легче попадать в
электроны, двигающиеся в цепях электронной аппаратуры и при их столкновении электроны
начинают двигаться, образно говоря, не туда куда надо и это приводит к сбою в
работе аппаратуры.
На очередном заседании комиссии я доложил результаты
наших испытаний и в общих чертах обрисовал предложенную методику использования
полученных результатов для определения стойкости аппаратуры ракеты при ее нахождении
в шахте. Для условий полета ракеты наши результаты соответствовали напрямую
безо всяких пересчетов. А применительно к шахте я разработал и предложил свою
методику оценки работоспособности аппаратуры. Выслушав меня и не услышав
возражений от присутствовавших, Ванин в категоричной форме командирским тоном
потребовал от меня выдать заключение о стойкости аппаратуры ракеты в шахте по
предложенной методике. В ответ я тоже в категоричной форме потребовал, что если
от меня требуют выдачу заключения, то у меня необходимо спросить, что для этого
необходимо. Такое независимое мое поведение его несколько обескуражило. Такого
ранга руководители не привыкли к независимому поведению руководителей предприятий,
с которыми они, в основном, имеют дело. Но потом быстро сообразив, очевидно,
что перед ним не руководитель предприятия, а всего лишь начальник отдела, он
более спокойно спросил, ну а что же вам надо? Я ответил, что для этого нужно
иметь форму импульса проникающей радиации в шахте, которая может быть получена
экспериментальным путем, что в настоящее время нереально в силу грандиозной
сложности эксперимента, либо она может быть получена расчетным путем. Тут же
последовал очередной вопрос — а кто ее может рассчитать? Я ответил, что это
могут сделать либо в Арзамасе, либо в одном из военных НИИ. Их представители
тут же заявили, что на эти расчеты им потребуется не менее трех месяцев.
Ванин был опытным руководителем, знающим свое дело. Он
тут же принял решение и выдал поручение, чтобы эта задача была решена
экспертным путем завтра же. Для этой цели институты выделяют своих специалистов
и под моим руководством путем экспертных оценок устанавливают форму импульса, а
своими расчетами в дальнейшем уточняют эту форму. А мне предписывалось в
трехдневный срок по этой экспертной кривой выдать заключение о стойкости
аппаратуры.
На следующий день, в воскресенье, как раз был день
рождения Ленина, мы собрались в одном загородном военном НИИ, просидели весь
день и к концу дня «родили» кривую формы импульса, изрядно наспорившись, но не
переругавшись. Насколько был высок уровень квалификации экспертов-ученых, что
расчетная кривая мало что потом уточнила. По экспертной кривой я выдал
заключение, которое мне предписывалось.
В своем заключении я написал, что аппаратура оказалась
нестойкой, и указал, какая и почему не стойкая. Разработчики аппаратуры согласились
с этим. Они работали в Арзамасе все это время совместно с нами на всех испытаниях,
были в курсе всех дел и поддерживали мою методику. Это заключение от имени
комиссии было направлено в ВПК и там вызвало возражения у некоторых лиц,
которые начали дотошное его разбирательство с привлечением независимых
экспертов со стороны. Они направили наше заключение на экспертизу в Арзамас-16
и попросили дать оценку этому заключению и той методике, на основании которой
оно сделано.
Из Арзамаса пришел ответ за подписью Харитона Ю. Б.
очень дипломатичного содержания, говоривший одновременно и «да» и «нет», но
больше «нет», чем «да». Я подивился способностям его составителей так изящно
облекать в туманные дипломатические выражения простые технические вопросы.
Потом, при встрече, его составители извинялись передо мной и уверяли, что их
вынудили прибегнуть к такому ответу и его форме.
После этого ВПК вызвала на «ковер» руководство
комиссии и меня. Ванин почему-то (?!) не смог поехать, а поехал Русанов. Но его
даже не пригласили в Кремле в кабинет и он так и остался в приемной. Мне было
так неудобно перед ним. Мы много лет работали вместе и он абсолютно никаких
претензий ко мне не высказал. Он, очевидно, уже привык к подобным
«интеллигентным» выходкам больших начальников. Они не терпели, когда вызывают
руководителя, а он присылает своего заместителя. Это неуважение и в ответ
последовало наказание, неважно, что оно пришлось по другому. Наказывается
система.
Я доложил руководству предложенный мною метод
обработки результатов испытаний. Они не очень долго разбирались в нем и, поняв
его, согласились с выводами, сделанными на его основе, тут же пожурив его
ниспровергателей. После этого все шахтные пусковые установки были доработаны.
После такого шумного и блестящего завершения третьих
«ракетных дебатов», на одном из совещаний в министерстве при подведении итогов,
заместитель главного конструктора аппаратуры с энтузиазмом предложил премировать
участников большой и важной, по сути инициативной, работы, на что ему что-то прошептали
на ухо и он смущенно посмотрел на меня и умолк. Очевидно все еще после вторых
«ракетных дебатов» мою фамилию нельзя было произносить вслух при министре,
несмотря на то, что казалось бы в третьих «ракетных дебатах» я оказался на его
стороне, сам к тому не стремясь. Клеймо «неправоверного», очевидно, в
номенклатурной епархии, раз полученное, уже не смывается никогда. Но Советская
власть и коммунистическая идея, которую нынче охаивает всяк, кто не ленивый, к
этим человеческим порокам никакого отношения не имеет. Здесь уже виновата
партия, не боровшаяся с этим.
МИНИСТЕРСКАЯ ВЫСТАВКА
После завершения всех этих работ по усилению защиты
шахт, произошла смена у нас министра. Бывший заместитель министра Бакланов О.
Д. стал нашим новым министром. Вскоре он решил провести смотр состояния работ в
отрасли по обеспечению стойкости от воздействия ядерного взрыва ракетной
техники, создаваемой в отрасли. С этой целью была организована выставка-отчет
всех ведущих конструкторских организаций отрасли по данной тематике. Каждое
предприятие изготавливало специальный стенд с демонстрационными образцами и
плакатами. Нам было, что показать и я организовал приличный стенд. Его расположили
рядом со стендом НПО «Энергия». У них на стенде было показано, как они будут
защищать свой «Буран» не известно от какого ядерного взрыва и не понятно от
кого он будет исходить.
К тому времени у нас Бугайского все-таки удалили и он
ушел заместителем к Лозин-Лозинскому делать все тот же «Буран». На его место назначили
Полухина. Он уже достаточно прочно освоился с этим местом. Когда я готовил
стенд, у него не оказалось времени его осмотреть. Перед приездом министра на
выставку, Полухин готовился у стенда к докладу. Основное его содержание я ему
докладывал еще в организации, когда готовил стенд. Поэтому он знал его
содержание и быстро усвоил наглядные экспонаты с соответствующей тематикой и
разобрался с представленными плакатами.
В это время подошел Глушко В. П. и почему-то один без
сопровождающих его специалистов. Он заменил Мишина в руководстве НПО «Энергия».
Я не обратил внимание на то, что Полухин тут же отошел в сторону, а мы с Глушко
остались одни и стали беседовать. Мы были знакомы еще ранее, когда он еще не
был в «Энергии» и возглавлял научную секцию АН СССР по топливам. Я тогда делал
доклад у него на секции о проблеме хранения жидкого топлива в ракете УР-100. Да
и потом мы в министерстве встречались. Так, что у нас беседа завязалась просто
и он начал у меня расспрашивать о том, что это нарисовано у них в «Энергии» на
плакатах по защите «Бурана». Я в общем виде обрисовал проблему по тем
материалам, которые были представлены на их стенде. Я так и не понял — усвоил
ли он услышанное. Он расспросил, как у нас организована эта работа. Потом я
узнал, что он у себя в «Энергии» образовал группу по защите от ядерного воздействия.
Пока я разговаривал с Глушко, я наблюдал за Полухиным
и видел, как он бросал неодобрительные взгляды в мою сторону. Из этого мне
стало ясно, что эти два Генеральных конструктора не очень ладят между собой, а
мне еще аукнется эта беседа.
По приезде министра, руководители предприятий, каждый
у своего стенда, докладывали о своих работах. От таких выставок-отчетов, в общем,
немалая польза. Они позволяют и заставляют подвести итоги, обобщить материал и
определиться в дальнейших направлениях работ. А, главное, руководители
предприятий более глубоко влезают в эту тему, до которой у них не всегда
доходят руки среди прочих многих проблем, которыми им приходится заниматься.
К стенду КБ «Южное» из Днепропетровска министр подошел
раньше, чем к нашему. Его руководитель Уткин стоял рядом, а докладывал,
очевидно, его заместитель. Они уже после нас провели аналогичные испытания
своей аппаратуры в Арзамасе-16 по нашей методике и докладчик весьма путанно
докладывал об этих работах. Бакланов спокойно, не повышая голоса, как в обычной
деловой беседе, начал задавать вопросы, уточняя услышанное. Но докладчик через
пару вопросов, на которые он дал уже просто неверные ответы, начал бледнеть,
закатил глаза и, потеряв сознание, начал падать. Оказавшись рядом, я и
начальник Первого главного управления министерства Иванов В. Н. едва успели его
подхватить и не дали ему упасть на пол. Я громко по-командирски попросил стул и
мы его, бедного, усадили на стул.
Бакланов стоял рядом несколько растерянный от
неожиданного эффекта, произошедшего в разговоре и, поглядывая по сторонам на
реакцию окружающих, неуверенно произнес: «Какие слабые нервы, я ведь ничего
такого не сказал ему и такая реакция». Потом докладчик быстро пришел в себя, но
доклад уже больше не продолжался. Министр пошел дальше.
У нашего стенда министр зато полностью разобрался с
Полухиным в этих испытаниях и без моего участия. После окончания выставки ко
мне подошел Уткин, пожал руку и тепло поблагодарил за оказанную помощь их товарищу.
После успешно прошедшего доклада Полухин больше о нем мне не вспоминал так же,
как и не отмечал проделанные нами большие работы по этой тематике. А ведь мы
тогда на выставке-отчете выглядели героями и министр это отмечал, когда
подводил итоги и раздавал поручения и задания на дальнейшее продолжение работ.
КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В. Н. ЧЕЛОМЕЙ В КОСМОСЕ
О первых начальных и
весьма успешных шагах Челомея в космосе я уже писал. Имеется в виду его необоснованно
замалчиваемый, впервые в мире осуществленный, возврат аппарата с орбиты на
аэродинамическом качестве по самолетной схеме, который затем не дали ему
развить.
Вторым его достижением явилось создание
ракеты-носителя «Протон» или как она у нас значится УР-500, а еще 8К82К. Идею
этого носителя он воспринял от разработок подобной ракеты у Мясищева. Челомей
очень правильно оценил перспективность этого проекта. Созданный в конце 60-х
годов «Протон» и поныне является самым мощным и самым надежным носителем в
мире.
После провала королевского лунного проекта с ракетой-носителем
Н-1, в основе которой была заложена порочная схема, при которой нужно было
синхронизировать одновременную работу более семидесяти двигателей, что абсолютно
не реально, именно носитель «Протон» позволил осуществить все то, что явилось
достижениями нашей страны в космосе после Гагарина.
«Протон» был создан на Филях. И опять Фили сослужили
добрую службу Отечеству в третий раз в советское время, обеспечив ему решение
важнейших приоритетных задач. Добрую традицию, заложенную в Отечественную войну
1812 года историческим «Советом в Филях», они достойно продолжают и поныне.
В 50-х годах на Филях были созданы первые
стратегические бомбардировщики Мясищева, составившие тогда основу ядерных сил
страны. В 60-х годах были созданы баллистические ракеты серии УР-100, обеспечившие
создание стратегического ядерного щита страны, разработанные под руководством
Челомея. Затем под его руководством был создан носитель «Протон». О последующих
работах в космосе теперь и пойдет повествование, но именно о тех работах, в которых
автор принимал сам непосредственное участие.
Коллектив конструкторского бюро на Филях, созданный
Мясищевым, всегда был лакомым кусочком, за которым охотились многие и мы всегда
были «филейной частью» у кого-то, после
того, как убрали от нас Мясищева. За пятьдесят лет работы я, не сходя со стула,
поменял в трудовой книжке пять мест работы. Вначале нас передали в качестве
филиала Челомею. После его кончины нас сделали филиалом НПО «Энергия». Затем
Полухину в эпоху «звездных войн» удалось вырваться и стать самостоятельным КБ.
И наконец-то в начале 90-х годов директору завода им. М. В. Хруничева, как раз
накануне кончины Полухина, Киселеву Анатолию Ивановичу удалось объединить завод
с КБ в Государственный научно-производственный космический центр им. М. В,
Хруничева. С научной точки зрения организации производства такое объединение
является наиболее обоснованным. Такое крупное объединение сосредотачивает в
одном месте под одним руководством решение крупной народно-хозяйственной
задачи, а именно — разработку и серийное обеспечение страны необходимой
наиболее наукоемкой продукцией. Это наиболее эффективно можно обеспечивать,
когда объединяются разработка и производство в одном коллективе. Но для нашего
Центра это объединение может иметь и отрицательные последствия, если уже сейчас
не принять необходимых мер.
Сейчас во главе органов управления Центра стоят
выходцы из производства и это пока оправдано. В рыночной стихии эти люди
быстрее освоились и это приносит Центру крупные заказы от иностранных потребителей,
за счет чего мы пока и живем в это трудное время. Но настанет время, когда мы
понадобимся и своему Отечеству. А тогда нужны будут крупные наукоемкие новые
разработки. И тогда потребуются новые идеи. К тому времени тип руководителя в
Центре должен будет измениться и это вроде здесь понимают. Первым заместителем
Генерального директора Центра уже назначен молодой выходец из КБ Медведев Александр
Алексеевич.
Но вернемся к нашему повествованию и, в частности, к «Протону». Его
нелегкая судьба стоит того, чтобы о нем рассказать несколько подробнее, поскольку
в результате ведущейся сейчас его модернизации, после более чем 25-летней его
успешной эксплуатации, он уйдет в своей жизни далеко за 2000-й год.
Его создание, а особенно принятие решения о его
модернизации, сопровождалось длительными и бурными аппаратными играми. В основе
их лежало противодействие Устинова, у которого неприязнь к Челомею во многом затмевала
интересы государства. В своей борьбе с Челомеем он поддерживал всех тех, кто
хоть в какой-то мере становились его конкурентами. Он активно и целенаправленно
противопоставлял их Челомею. Делал все это он, конечно, не сам. Это
осуществлялось аппаратами различных ведомств и уровней, очень тонко
отслеживающих желания высших властей. Это, по сути, является проявлением
действия законов аппаратных интриг, присущих всем видам властей всех эпох. Оно
проявляется в коллективном действии чиновников, в значительной мере
определяемом их личными интересами. В какой-то мере на это коллективное
поведение накладывается определенное ограничение, обусловленное
общечеловеческой моралью. В советское время накладывались еще дополнительные
ограничения идеологическими убеждениями и партийной дисциплиной. Но полностью
изжить аппаратные игры, очевидно, удается нескоро и их необходимо просто
учитывать в практической деятельности, смело и открыто провозглашать их подоплеку,
раскрывая их носителей.
Об аппаратных играх вокруг боевой ракетной техники я
уже писал. Не меньше плутовства плелось и вокруг «Протона», начиная с его разработки.
Его проект был выдвинут, когда началось обсуждение еще только идеи Н-1. Поэтому
«Протону» все время противопоставляли Н-1, утверждая, что при наличии такого
мощного носителя нет необходимости в среднем носителе. Создавалось несколько
комиссий различного уровня для определения целесообразности создания «Протона».
Их решения носили характер «вокруг да около». Челомею немало пришлось приложить
труда, пока он все-таки не пробил проектирование «Протона».
Об этом немало бы мог рассказать бессменный
технический секретарь всех этих комиссий Волохин В. Н. Подробно все эти козни
против ракеты-носителя «Протон» и челомеевской лунной ракеты УР-700 подробно
описано в больших публикациях в газете «Московская правда» в номерах от 30
марта и 30 апреля 1995 года
«Протон» все-таки
«прорвался» и вот 35 лет усердно служит российской космонавтике, а лунную
ракету так и не дали делать Челомею, сделав ставку на королевскую царь-ракету
Н-1, которая похоронила весь престиж нашего Отечества в космосе. Чиновничий зуд
Устинова и Смирнова сделал свое черное дело и они нанесли многомиллиардный
ущерб нашей экономике.
Через 10—15 лет эксплуатации встала крайняя
необходимость модернизировать «Протон», поскольку его аппаратура, была создана
на старой элементной базе, которая снималась с производства. И опять на пути
его модернизации встала на этот раз ракета-носитель «Энергия» с теми же
избитыми доводами, которые уже были опровергнуты жизнью. Но это не действовало
на противников Челомея. Только провал проекта «Энергия» несмотря на то, что эта
ракета, в отличие от Н-1 полетела, открыл дорогу модернизации нашего «Протона».
И тогда пришлось также приложить немало труда, чтобы начался реализоваться
проект его модернизации.
Наиболее коварно и цинично аппаратные игры проявились
по отношению к Челомею при создании им орбитальной космической станции «Алмаз».
В конце 60-х годов он первым пришел к идее создания орбитальной станции военного
и народнохозяйственного назначения со своим кораблем доставки экипажа, более
совершенным, чем «Союз», и своим транспортно-грузовым кораблем в пять раз более
грузоподъемным, чем нынешний «Прогресс». Такая станция «Алмаз» и возвращаемый аппарат
были разработаны в Реутово на основной базе Челомея, а транспортный корабль
снабжения (ТКС) был разработан на Филях. Изготавливались оба корабля на заводе
им. Хруничева опять же на Филях.
Изготовлению «Алмаза» и ТКС противились все
хозяйственные структуры, в результате чего происходили значительные задержки и
в изготовлении, и в поставке комплектующих агрегатов и систем. Но «Алмазу» был нанесен
решающий удар с другой стороны.
Устинов четко представлял какой эффект произведет
запуск первой орбитальной станции и какие лавры достанутся ее разработчику Челомею.
Этого нельзя было допустить. И тут привлекается королевская фирма «Энергия», которая
разрабатывает проект использования корпуса станции «Алмаз» с переоборудованием
его в станцию «Салют» и установкой на нее оборудования жизнеобеспечения с
корабля «Союз», рассчитанного всего на семь суток работы. Это оборудование было
в наличии, но оно, как видно, абсолютно было не пригодно для такой большой
станции как «Салют». Но главная задача при этом решалась — сорвать вывод первой
на орбиту станции «Алмаз» и противопоставить первоклассной, глубоко продуманной
станции «Алмаз» скороспелую станцию «Салют», которая при той спешке, с которой
она создавалась, была абсолютно «пустой».
Сформировав идею, как вырвать у Челомея лавры
первенства, оставалось найти фирму, которая смогла бы эту идею воплотить в
жизнь, поскольку у НПО «Энергия» не было никакой документации по корпусу
«Алмаза», да к тому же они были всецело поглощены царь-ракетой «Энергия» и
«Бураном». Наиболее подходящей для этой цели оказалась наша фирма на Филях.
ДАЕШЬ СТАНЦИЮ
«САЛЮТ»
Для того, чтобы было ясно, почему наша фирма оказалась
наиболее подходящей для реализации этого коварного проекта, надо вернуться
несколько назад и изложить ту обстановку в фирме, которая сложилась у нас под
воздействием «драки на верхах».
Один из главных законов аппаратной борьбы состоит в
том, что каждая из борющихся сторон создает свои структуры по всем этажам бюрократической
системы, состав которых определяет армию каждой из воюющих сторон. Фронтальная
война дальше разворачивается между этими неформальными структурами на каждом
этаже этой лестницы. Можно себе представить как лихорадит от этого коллективы
многих организаций, вовлеченных в это противостояние, и как подрывается вера
людей в своих руководителей.
В те годы у нас в КБ «Салют», а тогда мы назывались
филиал ЦКБМ, также произошла такая поляризация. На сторону Челомея встали все
филевские заместители Челомея. Каждый из них вел себя по своему в этой гнусной
ситуации. Главной ударной силой Челомея на Филях были его замы Полухин и
Дьяченко. Бугайского, возглавлявшего наш коллектив в ранге одного из замов
Челомея, аппарат Устинова привлек на свою сторону и Бугайскому некуда было
деваться. Вокруг него сгруппи-ровалось среднее звено руководителей и партком,
что было немаловажно тогда. В целом в организации сложились симпатии на стороне
Бугайского благодаря еще и его прекрасным человеческим качествам.
Поляризация нашего коллектива началась на почве
продления сроков службы боевых ракет и замены ракет УР-100, в эпицентр которой
мне угораздило угодить. Я писал, что еще до массовых течей ракет Челомей
готовил более совершенную ракету на замену УР-100. А Бугайского заставили в
противовес этому готовить легкую ее модернизацию по идее Устинова, что он и
выполнил вопреки воле Челомея. Выпуск чертежей на новую ракету тормозил уже
Бугайский и они были сделаны, когда он был в отпуске. Коллектив конструкторов
профессионально выполнял и ту, и другую работу и в технических вопросах никаких
осложнений у них не возникало. А вот в морально-этических вопросах все было не
так просто. Коллектив раздирали склоки и ссоры. Вот в это время Бугайскому
после всего этого и поручили реализовать идею создания станции «Салют» на базе
станции «Алмаз». Этому еще способствовало и то, что соседний завод им.
Хруничева изготавливал станцию «Алмаз» и имел полный комплект рабочих чертежей
на нее.
Челомею ничего не оставалось делать как наблюдать, как
руками его же коллектива вырывали у него изо рта такой лакомый кусочек космического
пирога. Не хочется даже писать сколько грязи и подметных писем было вылито и
написано друг на друга каждой из сторон. В общем, Бугайского вынудили уйти из
организации. На его место назначили Полухина Д. А. Он был вынужден продолжать
работы по станции «Салют», поскольку она уже летала, и эта тематика приобрела
общенациональные масштабы. Но он оставался самым преданным сторонником Челомея,
пока и его наш министр не вынудил повздорить с Челомеем.
Когда мы
проектировали сверхзвуковую крылатую ракету в противовес «Томагавку», о которой
я уже упоминал, Челомей заложил большое число ракет для экспериментальной
отработки, борясь за качество ракеты. Министр возражал против такого большого
числа экспериментальных ракет, поскольку это значительно удорожало разработку,
но сломить Челомея не мог. У них на этот раз оказались разные интересы. Тогда
министр Афанасьев настропалил Полухина, поручив ему разработать программу
экспериментальной отработки ракеты на половинном количестве ракет, и затем
утвердил ее. Так Полухин стал злейшим врагом Челомея. Вот так элементарная
человеческая непорядочность в технических спорах превращается в недостойное противостояние
и склоки, которые разъедают коллективы и извращают мораль людей, участвующих в
этих склонах. За эту услугу министр сделал нашу организацию самостоятельной, а
Полухина назначил Генеральным конструктором. Полухин верно служил всем нашим
министрам и, на удивление, на его похороны пришли все министры, которые у нас
бывали: Афанасьев, Бакланов, Шишкин и Догужиев. Этого не было даже у Челомея на
похоронах.
А тогда, работы по созданию первого «Салюта» Бугайский
развернул полным ходом. На Филях разрабатывалась конструкция и выпускались
рабочие чертежи на станцию, а НПО «Энергия» обеспечивала поставку комплектующих
агрегатов и систем и выпускала циклограммы их функционирования, по которым у
нас выпускалась рабочая документация на их установку в станции.
Работа по разработке станции «Салют» с технической
стороны была интересной и конструкторы с удовольствием ее выполняли, благо она
хорошо и оплачивалась. На этой работе выросли многие специалисты и
сформировался ряд новых подразделений. В организации одного из них пришлось
участвовать и мне. Создание станции сопровождалось множеством различных
технических коллизий, неудач, успехов и всем тем, что сопутствует такому
большому делу. Я опишу только то, в чем сам принимал участие без претензий на
описание всего процесса создания станции. Это еще предстоит сделать будущим
историографам техники, если такие появятся. Но годы уходят, а вместе с ними и
те кто создавал эту технику, унося с собой навсегда то, что уже никто не сможет
восполнить. А жаль! Ведь сделано было много хорошего и далеко не ординарного.
Последующие станции «Салют» и станция «Мир», с модулями к ней, созданные нами,
были уже далеко не «пустыми», какой была первая станция «Салют». Эта техника
составила одно из ярких направлений в космонавтике и создала такой громадный
международный авторитет нашей фирме, что мы им сейчас пользуемся в полной мере.
Жаль, что до этого не дожил главный конструктор «Салютов», станции «Мир» и модулей
к ней у нас на Филях Палло Владимир Владимирович. Он много вложил своего труда
в эту технику и неожиданно скоропостижно скончался.
ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОЧИХ МЕСТ КОСМОНАВТОВ
Бугайский до прихода к Челомею работал заместителем у
Ильюшина и был по сути главным конструктором нашего первого отечественного
магистрального пассажирского самолета Ил-18. Он был «отцом» этого самолета и прошел
все тернии при его создании. Одними из них были взаимоотношения с Аэрофлотом в
части внутренней отделки самолета и обеспечения необходимого сервиса пассажирам
и экипажу. С этой целью Бугайский создал у Ильюшина специальную службу по
внутренней отделке этого самолета. Имея такой опыт внутренней отделки пассажирского
самолета, он решил создать такую же службу у нас по внутреннему оборудованию
станции, расширив ее задачи. Ей поручалось обеспечение длительной обитаемости в
станции в отличие от жизнеобеспечения, которое направлено на обеспечение жизни
— это температура, газовый состав, пища, сон и физтренировка. Длительная обитаемость
— это создание удовлетворительных условий, способствующих достаточно
комфортному пребыванию человека в ограниченном пространстве в условиях
невесомости. Сюда входят оборудование рабочих мест космонавтов, средства их
фиксации и передвижения, а также общий интерьер станции, включая его отделку и
цветовую гамму.
Создать такую службу Бугайский решил в моем отделе,
поручив это дело моему приятелю Давлианидзе Отару Ипполитовичу. Но вскоре он
перешел на работу на полигон по боевой тематике и этот воз пришлось тащить мне.
Следует отметить, что при начале проектирования первой
станции «Салют» никакого опыта, а тем более каких-либо требований в части
обеспечения обитаемости не было, несмотря на то, что какой-то опыт непродолжительных
полетов уже был. Особенно был неприятный опыт полета Николаева, который выявил
крайнюю необходимость физических нагрузок у космонавта для поддержания его
физического состояния.
На одном из первых совещаний наших технических
руководителей с руководством НПО «Энергия» меня и космонавта Елисева А. С. отправили
в соседнюю комнату и предложили, пока идет совещание, выработать требования по
обитаемости и доложить к концу совещания. Они будут рассмотрены, обсуждены и
затем их рекомендуют для реализации. Что-то за час они были сформулированы нами
и утверждены на совещании.
Какими же они потом казались нам наивными и
простодушными, после того как космонавты полетали на станциях «Салют» не год и
не два. Вместе с тем, мнение многих экипажей подчас различаются даже по одним и
тем же вопросам, поскольку дело касается вкусовых качеств. Одному нравится
одно, а другому нравится совсем противоположное. Даже восприятие цвета и запаха
и вызываемые ими ощущения у разных людей различное. Но, что было единодушным у
всех экипажей на первом «Салюте», так это отношение к нашему креслу космонавта
на основном рабочем месте за пультом управления станцией. А мы ведь его с такой
любовью и тщательностью проектировали.
Мы взяли за основу кресло самолета Ту-134 и так его
усовершенствовали, что оно только стрелять не могло у нас потому, что никто из
нас не додумался приделать к нему еще и пушку. А так оно и космонавт в нем
могли делать все, что угодно, кроме управления станцией. Мы снабдили его
всевозможными приспособлениями и механизмами для работы и фиксации в условиях
невесомости, а само кресло могло вращаться в трех плоскостях и фиксироваться в любом пространственном положении. Это было
чудо техники — настоящее «царь-кресло».
В первых же полетах космонавты ошалели от этого
чудища. Наиболее удобным для них оказалось располагаться и фиксироваться на рабочем
месте, когда они забирались под это кресло. А их у основного пульта стояло две
штуки — для каждого космонавта, возвышаясь над всей рабочей зоной. В общем,
космонавты мучились с ними до тех пор, пока не подвернулся очередной грузовой
корабль, привезший на станцию очередной груз. Космонавты с трудом демонтировали
эти кресла, затем затолкали их в грузовик и с превеликим удовольствием утопили
эти кресла в океане вместе с грузовиком. После этого у них наступил верх
блаженства. Получилось как в известной побасенке, когда в тесную комнату
пустили жить еще и козу. Потом, когда ее выгнали, изрядно намучившись с ней, то
стало так свободно и легко жить в той же комнате.
Кресловая эпопея показала нам, что кавалерийскими
наскоками такую новую проблему как обитаемость в невесомости, решить нельзя. Существует
наука эргономика, изучающая функциональные операции и условия осуществления
трудовой деятельности, а также функциональные связи человека с орудиями и
предметами труда. Стало ясно, что необходимо на основе ее методологии и
имеющихся закономерностей строго подойти к изучению таких закономерностей, но
уже применительно к деятельности в условиях невесомости.
ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВЕСОМОСТИ
Ознакомившись с основными положениями эргономики мы
разработали план экспериментальных исследований применительно уже к нашей тематике.
В ее состав вошли такие задачи, как изучение различных средств фиксации и передвижения
космонавта, удобство пользования различными органами управления, характер взаимодействия
космонавта при столкновении в свободном полете со стенками станции различной
конструкции интерьера, статические и динамические усилия, развиваемые
операторами в состоянии невесомости и ряд других. Для этих исследований нами было
разработано большое число разнообразных экспериментальных образцов с множеством
различных конструктивных решений. Но как понятно из логики вещей, эти исследования
нужно было проводить в состоянии невесомости на летающей лаборатории Ту-104, в
которой проходят тренировки космонавты. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в
Звездном городке охотно поддерживали нашу программу и взялись осуществить эти
эксперименты. Тогда еще не было пресловутых рыночных отношений и Центр все эти
исследования провел бесплатно для нас.
Для проведения исследований мы разработали два стенда,
в которых располагались космонавты и осуществляли различные эволюции. Стенды
оснастили измерительной и регистрирующей аппаратурой для фиксации усилий, развиваемых
операторами. Трудно было добыть датчики для измерения динамических усилий. Но
подключившийся к этим работам космонавт Кубасов В. Н. помог нам их добыть у
него на родине в Краснодаре. Для экспериментов в полете ЦПК выделил десять
инструкторов, которые занимались с космонавтами. А от нас мне удалось включить
в эту группу нашего молодого конструктора Герасимова Николая, который вел эту работу.
Но для этого ему пришлось пройти медкомиссию космонавтов в полном объеме, которую
он успешно выдержал и у нас появился свой «космонавт».
Полеты в лаборатории Ту-104 велись в течении 1972—73
годов и успешно закончились получением громадного экспериментального материала,
который нам позволил проектировать средства обеспечения обитаемости в космосе
со знанием дела. Часть этих материалов вошла в отраслевой стандарт,
определивший усилия, развиваемые оператором в невесомости. А весь остальной
материал так и остался неиспользованным для широкой технической общественности.
Герасимов Н. М., отлетав всю программу в невесомости на самолете Ту-104
совместно с инструкторами космонавтов, не стал защищать кандидатскую
диссертацию по этому материалу и он так и остался неопубликованным.
После этих экспериментов, спустя более десяти лет, в
НПО «Энергия» были проведены аналогичные исследования, но уже применительно к
работе космонавта в скафандре в открытом космосе. По результатам этих работ у
них была защищена Цыганковым О. С. докторская диссертация. Эти работы по праву
можно считать первыми основополагающими в начале формирования нового
направления в эргономике, а именно — эргономики невесомости, обобщающий научный
труд по которой еще не появился.
МОДУЛЬ «КВАНТ»
Станции «Салют» закончили свое существование на
седьмом номере. После него мы разработали станцию «Мир». Она отличалась тем,
что была более комфортабельной внутри и имела более совершенное оборудование.
Основное отличие ее составляло в том, что она имела причальный отсек, на
котором было установлено пять стыковочных узлов для причаливания к ним,
запускаемых отдельно от станции, кораблей, называвшихся модулями. Они
снабжались каждый своей аппаратурой для проведения соответствующих экспериментов.
В конце 70-х годов вышел приказ министра, которым
устанавливались сроки выпуска чертежей на четыре модуля к станции «Мир». Первым
среди них был модуль «Квант», на котором, в числе другой аппаратуры, был очень
важный и очень тонкий прибор, называвшийся «инфракрасная вертикаль». Он нужен
был для обеспечения строгой ориентации станции на Землю с большой точностью.
Это был очень чувствительный прибор и он не переносил сильных ударов. Рядом с
ней стояла большая крышка научной аппаратуры, которая отстреливалась после
выведения модуля на орбиту, открывая эту аппаратуру. Сбрасывалась крышка с
помощью пирозамков, срабатывание которых сопровождалось очень сильным ударом и
вертикаль при этом неизбежно выходила бы из строя. А перенести ее от этих
приборов в другое место было невозможно, поскольку она предназначалась именно
для ориентации этих приборов на Землю. Возник заколдованный круг. Проектанты не
находили решения.
К тому времени Полухин назначил меня начальником
отделения, подчинив мне каркасный отдел, отдел интерьеров и длительного хранения,
а также отдел неметаллов. Вся моя старая тематика вновь оказалась у меня. На
место Нодельмана тогда же назначили нового человека из числа наших сотрудников
Вострикова Ивана Максимовича. Он был расчетчиком-тепловиком и не имел еще
достаточного опыта в конструкторской работе. В то время я собирал при
необходимости у себя руководителей всех нужных отделов предприятия для решения
тех или иных вопросов по своему отделению. На одном из таких совещаний мы
решили судьбу «Кванта». В принципе существовала идея создания безударного
пирозамка, но технической реализации ее не существовало. Был риск, что поиск
технического решения и отработка конструкции замка могут затянуться, а то и
вообще провалиться. Но другого выхода не было и я принял решение о разработке безударного
замка. В технике всегда имеет место та или иная степень риска, особенно в новом
деле. Вопрос состоит в степени обоснованности и характере последствий риска.
Это уже зависит от квалификации и опыта рискующего. Чем он выше, тем меньше
вероятность получения отрицательного решения.
После принятия такого решения компоновщики «завязали»
проект модуля и в организации были выпущены рабочие чертежи на модуль. Когда я
доложил Полухину о том, что чертежи на корпус «Кванта» выпущены, он изрядно был
удивлен. Он знал проблему, но ему никто не доложил о принятом решении по замку,
а я не хотел докладывать, пока не будет выпущена рабочая документация,
поскольку он был дотошным человеком и такое принципиальное решение он так бы
просто не пропустил. Я хотел поставить его перед свершившимся фактом, чтобы возврата
уже не было. Только так можно было выдержать срок, установленный министром.
Мое решение оказалось правильным и риск был оправдан,
поскольку конструкторы во главе с Беляковым В. В. с успехом справились с этой
задачей и «Квант» отлично работает на орбите в составе комплекса «Мир».
«ТАЛКА»
На станции «Мир» мы впервые применили разработанный
специально для нее отделочный материал интерьера, который назвали «Талка». Это
был синтетический материл с дублирующей полимерной отделкой. Интерьер,
отделанный этой тканью разных цветов, выглядел внешне на макете весьма
привлекательно. Для изготовления этой ткани нити изготавливали в г. Иваново,
ткань изготавливали в Ленинграде, а дублировали в Днепропетровске. Кооперация
была сложной, а времени уже не оставалось. На заводе им. Хруничева, где
изготавливалась станция, сложилась напряженная обстановка. Под угрозой срыва
сроков находилось изготовление станции, поскольку с поставкой «Талки» дело было
осложнено настолько, что никто не мог даже сроки поставки назвать.
Тогда директор завода Киселев и Полухин поехали к
министру легкой промышленности Тарасову и взяли меня и Балашова с собой. Оказалось,
что все три завода находятся в трех разных главках. Вот и увяжи их между собой.
На совещании было принято решение о том, что начальники главков выдают указания
о срочности заказа на свои заводы и берут эту работу под свой контроль, а мы
направляем своего «толкача», чтобы он следовал по всем трем городам вслед за
техпроцессом изготовления ткани. Я послал заместителя начальника отдела
неметаллов Балашова В. Н. в Иваново, где изготавливалась нить, мы быстро и без
хлопот прошли Иваново, а в Ленинграде споткнулись на Аэрофлоте. Не было
грузового самолета в Днепропетровск. Я связался с диспетчером в Пулково в
аэропорту Ленинграда и надоедал ему через каждые два часа. На второй день он
меня обрадовал тем, что он все-таки отправил ткань. Но мои радости были
преждевременными. Из Днепропетровска мне Балашов сообщает, что ткань в
Днепропетровск не прибыла, а ушла во Львов. Этот диспетчер в Ленинграде, чтобы
отделаться от этой злополучной ткани отправил ее первым попавшимся самолетом в
сторону Днепропетровска. Этим самолетом оказался грузовик во Львов. Я тут же
дал указание Балашову направиться в обком партии, через него связаться с ЦК КПУ
и попросить их организовать отправку ткани из Львова. Этот путь четко сработал
и ткань на следующий день была в Днепропетровске. Для этого в очередном
рейсовом пассажирском самолете сняли два кресла и погрузили на это место нашу
многострадальную ткань. Ткань в Днепропетровске быстро продублировали и изготовление
станции «Мир» не задержалось. Но потом все
это аукнулось нам.
После некоторого времени эксплуатации станции, на этом
отделочном материале начало появляться какое-то маслянистое выделение и оно не
снималось никакой протиркой. Со временем это выделение загрязнилось, стало
липким и в станции стало неприятно находиться. А ведь в ней уже летали
иностранные представители. В общем, ситуация становилась весьма неприятной.
Эксплуатацией станции «Мир» занимается НПО «Энергия» и там долго возились пока
подобрали соответствующие средства и космонавты удалили весь этот налет. Сейчас
станция летает с вполне приличной отделкой интерьера.
Очевидно, в процессе спешки, при дублировании ткани в
Днепропетровске был нарушен в чем-то техпроцесс дублирования, что и привело к
выделениям из нее в полете станции. Это еще один пример, когда нужно торопиться
не поспешаючи.
УРИНА НА БОРТУ
В середине 80-х годов один из летавших экипажей, уже к
завершению своей экспедиции, передал на Землю сообщение о том, что на заднем
днище корпуса станции «Салют-7» появилось обширное пятно, покрытое белым рыхлым
налетом по виду продуктами коррозии. Мы попросили снять осторожно продукты
коррозии неострым предметом и показать место коррозии по телевидению. Пятно
было по размерам примерно в три ладони и металл днища был довольно глубоко
изъеден. А толщина днища в этом месте всего 1,3 мм из алюминиевого сплава.
Затем мы дали указание экипажу зачистить до металлического блеска место
коррозии подстриженными зубными щеткам и опасными бритвами, а затем протереть
тампоном, смоченным спиртом. После этой зачистки обнаружилась поверхностная
трещина длиной около 80 мм и ряд отдельных язв, заполненных зелеными продуктами
коррозии. Это вызвало у руководителей полетов и у нас крайнюю озабоченность. В
Центре управления полетами (ЦУП) установили круглосуточное дежурство
специалистов и увеличили частоту замера давления в станции. Случай был из ряда
вон выходящий.
Коррозию вызвала урина из санузла, находившегося
рядом, за счет невнимательного его использования при отправлении экипажем естественных
надобностей. Они не заметили, что сборный бачок переполнился и его не заменили
вовремя. Вот из него урина и попала на днище. Подобного не было ни с одним
экипажем ни до ни после этого случая. Теперь предстояло выяснить глубину
коррозии в щели и в язвочках.
Экипаж по разработанной нами методике замерил эту
глубину и все пришли в ужас. Глубина язв оказалась 0,8—1,0 мм. Это значило, что
целого металла осталось всего 0,3 мм. Возник сразу же вопрос — за сколько
времени оставшиеся продукты коррозии в язвочках и трещине проедят насквозь эти
оставшиеся 0,3 миллиметра и корпус станции разгерметизируется. Это зависело от
многих факторов таких, как коррозионная активность оставшихся продуктов
коррозии в язвочках, и не будет ли в них развиваться активная биокоррозия, а
также насколько нагревался материал днища при изготовлении, поскольку
увеличенный нагрев увеличивает склонность материала к коррозии. Кроме того,
неясно было как повлияет наличие коррозии на прочность самого днища. Все это
требовало быстрого и квалифицированного изучения и разработки соответствующих
мероприятий по устранению последствий. Для этого нужно было привлечь
специалистов у нас, а также ряд специализированных предприятий и НИИ. Я
предложил создать специальную комиссию во главе с ответственным руководством от
НПО «Энергия», поскольку причиной всему этому послужили нарушения при
эксплуатации, за которую отвечает эта организация. Она и должна организовать
всю эту работу.
Предложение приняли и председателем назначили
космонавта Феоктистова К. П. Он тогда работал заместителем Генерального конструктора
у них. Эта личность была в свое время достаточно известная. Он, будучи
способным молодым специалистом, стал одним из молодых сподвижников Королева. Но
вскоре после этого случая его «задвинули» и потом вообще куда-то убрали.
Способных людей у нас мало кто терпит рядом с собой. Несмотря на то, что
председательствовали от «Энергии», работа вся шла у нас в Филях. От нас в
комиссии участвовать пришлось мне, но работали все подразделения, необходимые
при решении того или иного вопроса.
В итоге, нами была разработана методика и
оборудование, с помощью которых на орбите был произведен ремонт этого места. У
себя мы изготовили имитатор этого места и всю отработку ремонта провели
предварительно на земле. По выработанным нами рекомендациям экипаж и провел
ремонт уже на орбите.
Задачи ремонта заключались в надежном устранении
продуктов коррозии из щелей и язв, а также усилении днища в этом месте. Ремонт
заключался в том, что мы на поврежденное место наклеили усиливающую накладку,
предварительно обработав это место по разработанной методике. Трудность
состояла в разработке устройства для прижима накладки. Для этой цели мы
разработали устройство со специальным резиновым мешком, который после его
наддува плотно прижимал накладку.
После проведенного ремонта станция успешно отлетала
весь положенный ей срок.
ПОТЕМНЕНИЕ ИЛЛЮМИНАТОРА
После некоторого времени полета станции «Мир» с
модулем «Квант», один из иллюминаторов потемнел, а через него должны были вестись
очень важные наблюдения, которые могли сорваться. Возникла задача его очистки.
Снаружи космонавты отскоблить его не смогли, используя подручные средства.
Поэтому нужно было разработать специальную методику его очистки.
На этот раз от НПО «Энергия» поступило предложение
создать специальную совместную комиссию под председательством представителя КБ
«Салют», поскольку мы выдавали техническое задание на разработку иллюминатора и
курировали эти работы в специальном НИИ. Предложение приняли и председателем комиссии
назначили меня. Таким образом счет у нас с «Энергией» по комиссиям стал один к
одному.
Появление загрязнения только на одном иллюминаторе
было весьма странным, поскольку все остальные иллюминаторы на станции «Мир»
были чистыми. Это загрязнение могло произойти либо от поверхностной
полимеризации осевших продуктов газовой пристеночной атмосферы, имеющейся
вокруг станции, либо от каких-либо наземных источников, действие которых
проявилось с течением времени на орбите под воздействием окружающей космической
среды. Для достоверного установления причин и определения химического состава
загрязнения нужно было провести весьма объемные и специфические исследования,
которые заняли бы продолжительное время. Поэтому мы сосредоточили наше внимание
на поиске методов удаления налета, абстрагируясь от природы его появления и
состава. Мы рассмотрели все мыслимые и немыслимые химические, физические и
механические процессы, которые в той или иной степени могли бы быть использованы
в этих целях. Остановились на лазерном методе, при котором лазерный луч,
посланный изнутри станции, фокусировался бы на наружной поверхности иллюминатора
и испарял бы пленку, находящуюся на его наружной поверхности.
Разработку этого метода и оборудования для его
осуществления комиссия поручила проводить «Энергии», поскольку это было связано
с операционной деятельностью экипажа. Но то ли необходимость в этом
иллюминаторе отпала, то ли из этого метода ничего не получилось, но дело так и
не сдвинулось и «Мир» продолжает летать со слепым иллюминатором.
Этот случай
показал, что вопрос сохранения чистоты оптики в космосе является весьма важным
и далеко не простым и его нужно изучать фундаментально и широким фронтом, от
чего отказалась наша комиссия и что не делается до сих пор.
Дело в том, что вокруг космического корабля, так же,
как и вокруг Земли, существует своя микроатмосфера. По замеренным данным на первых
«Салютах» вокруг корабля давление на его поверхности поднимается на три порядка
по сравнению с окружающим космосом, за счет ее насыщения парами газов,
выделяющихся из материалов станции, имеющихся на ее поверхности, а также за
счет выбрасываемых газов при работе двигателей стабилизации станции. Состав
газов этой микроатмосферы зависит от состава материалов станции, их
газовыделения и состава продуктов сгорания от двигателей стабилизации. А
потемнение оптики зависит от состава микроатмосферы и сорбционной способности оптики
по отношению к этим газам, а так же способности их полимеризовываться на
поверхности оптики под воздействием космической среды. Все эти явления должны
комплексно изучаться с тем, чтобы разобраться в том, как защитить оптику для
длительного функционирования в космосе, поскольку она всегда должна находиться
в открытом состоянии при ее работе.
ОБТЕКАТЕЛИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Космический объект, выводимый на орбиту на
ракете-носителе, закрывается так называемым обтекателем. Он закрывает «нежный»
космический аппарат от аэродинамического воздействия при прохождении плотных
слоев атмосферы. Его оболочку изготавливают в виде традиционной
стрингерно-шпангоутной конструкции из металлических материалов, вошедшей в
конструкцию фюзеляжей самолетов, начиная с появления металлического
самолетостроения.
Когда я начал заниматься руководством каркасных и
неметаллического отделов, мне стало ясно, что обтекатели являются наиболее подходящими
агрегатами для использования в их конструкции полимерных композиционных материалов,
которые являются наиболее прогрессивными. О разработке корпусов станции «Мир» и
модулей к ней чего-либо особенного сказать нечего. Приведу только
принципиальные схемы станции «Мир» и модулей к ней.
Разработка корпуса — обычная в нашем деле трудоемкая
инженерная работа, для выполнения которой, конечно, нужны специальные знания и
соответствующий опыт, как и в любой другой работе, когда люди становятся в ней
специалистами.
Повозиться пришлось с корпусом модуля «Квант», о чем я
уже писал. Разработка корпуса — это очень трудоемкая работа, когда над тобой
довлеют сроки, а довлеют они, как правило, всегда. Ведь все, что имеется на
станции крепится на корпусе внутри его и снаружи, а это сотни приборов,
устройств и систем различного назначения, для крепления которых в корпусе нужно
предусмотреть и установить соответствующие места. А прежде чем их установить, их нужно разработать, увязать и согласовать с
десятками смежных отделов в организации, занимающихся разработкой аппаратуры.
Например, на функционально-грузовом блоке (ФГБ),
который мы разработали для международной космической станции (МКС), о чем я
расскажу далее, только снаружи корпуса к нему приваривается 1981 кронштейн для
установки различного оборудования и столько же внутри. И все это нужно увязать
со многими отделами, устанавливающими это оборудование. Но, главное, при всем
при этом, необходимо выполнить основную задачу — обеспечить общую прочность и
герметичность корпуса при обеспечении местной прочности при восприятии сосредоточенных
усилий, приходящих на корпус от устанавливаемого оборудования. При этом нужно
выдержать строго заданный лимит веса. Так что забот и хлопот у каркасника
хватает. В процессе разработки аппарата его агрегаты и системы меняются и
подвергаются доработкам и по конструкции, и по месторасположению. Все эти изменения
нужно отслеживать в конструкции корпуса. А если учесть, что все эти изменения,
увязки и утряски идут одновременно с изготовлением корпуса в производстве, то
можно себе представить насколько дерганая работа у конструктора-каркасника. Поэтому
у каркасников очень мало времени остается для творческих поисков и разработки
принципиально новых типов конструкций. Но жизнь заставляет все же заниматься и
новыми конструкциями и обтекатели были именно тем типом конструкции, где новое
с криком просилось на разработку.
Обтекатели представляют собой довольно сложное
сооружение. Если корпус ракеты или космического корабля представляет собой статическое
сооружение, то обтекатель является по сути динамическим сооружением. После прохождения
плотных слоев атмосферы, восприняв от нее статические, тепловые и акустические
нагрузки, он раскрывается на две половины и сбрасывается. Дальше ракета с
космическим аппаратом движется в космосе с незащищенным космическим аппаратом.
Его корпус диаметром 4,35 метра и длиной 11 метров снабжается узлами и
механизмами разделения и сбрасывания, а также наружной и внутренней теплозащитой
и теплоизоляцией. В общем это солидное сооружение и сделать его из
композиционных материалов было не так-то просто.
Во-первых нужно было провести исследования и накопить
соответствующий экспериментальный материал с целью оптимизации корпуса и выбора
типа материала и технологии его изготовления. Во-вторых, и это главное, нужно
было найти производственную базу для изготовления такого крупногабаритного
агрегата.
Экспериментальные работы мы провели у себя в отделе
неметаллов, а вот с производственной базой пришлось помучиться. Для выбора
производственной базы нужно было вначале определиться с выбором материала для
корпуса, а это уже определит и тип технологии и соответственно тип
производственной базы. Композиционными материалами у нас в организации
практически прекратили заниматься после моего ухода из отдела неметаллов. И
когда после завершения работ по длительному хранению, почти через двадцать лет,
я вновь начал заниматься каркасом и предложил заняться композиционными
материалами, то встретил не только возражения, но и яростное сопротивление этой
идее.
Сомнение возникало в том, что для такого большого и
сложного корпуса, как обтекатель, отработка технологии его изготовления займет
много времени с неизвестным исходом. Яростное сопротивление высказывал мой
однокурсник по институту Юрьев К. Д. Он работал начальником одного из отделов
моего отделения и доказывал, что корпус из композитов будет тяжелее, чем из
металла. Но это уже нонсенс.
А вот с сомнением о сложности отработки технологии
нужно было считаться, поскольку это одна из главных трудностей во внедрении
композитов. Учитывая это, я начал разработку корпуса из стеклопластиков, а не
из углепластиков, поскольку технология стеклопластиков была более простой, а,
главное, я ее освоил еще двадцать лет тому назад и по ней защитил кандидатскую
диссертацию. Моя стратегия состояла в том, что на первом этапе нужно внедриться
с композитами, а потом уже можно будет перейти и к углепластикам. И эта
стратегия полностью себя оправдала. Потом мы начали делать обтекатели уже и из
углепластиков. А тогда во весь рост стояла проблема производственной базы.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Когда мы занимались корпусами головных частей из
стеклопластиков в начале 60-х годов, то по моему техническому заданию был спроектирован
и построен цех неметаллов на заводе им. Хруничева. К началу 80-х годов, когда
мы вновь начали заниматься композитами, этот цех использовался по назначению
наполовину. Громадная полимеризационная камера, которая полностью нам
подходила, использовалась как склад, а два заглубленных автоклава были
превращены просто в мусорные ямы. Но заводчане никак не хотели принимать от нас
заказ на изготовление корпуса головного обтекателя из стеклопластика. Тогда мы
не могли преодолеть этот барьер и стали искать базу на стороне, несмотря на то,
что она имелась под боком и не могла быть использована.
С начальником отдела неметаллов Деревлевым К. П. мы
объездили заводы в Самаре, Сызрани, Хотьково и Обнинске под Москвой, но ни одно
из производств на этих заводах не подходило. Еще не наступили «рыночные» отношения
и от работы тогда отказывались любой ценой. В Сызрани можно было бы дооборудовать
его производство, но руководство завода отказалось от нашей работы, увязнув в
поставках мелочевки из неметаллов для ВАЗа.
Как-то, находясь в министерстве, я посетовал на то,
что гибнет идея обтекателя из композитов, поскольку не можем найти подходящую
производственную базу для его изготовления. Они тут же предложили съездить в
город Сафоново под Смоленском и посмотреть там завод пластмасс.
Об этом заводе я ничего ранее не слышал так же, как и
мое руководство на предприятии. Этот завод создавался ударными темпами, когда
начали переходить с жидкостных стратегических ракет на твердотопливные, и на
нем было создано мощное производство по изготовлению методом намотки корпусов
твердотопливных ракет из полимерных материалов. До этого там было создано еще
более мощное производство по изготовлению контейнеров для ракет днепропетровцев,
когда они спроектировали новую ракету по образцу нашей УР-100 взамен их
потекших ракет. Об этом я писал. Но об этом производстве я ничего не знал.
Такова была цена сверхзасекречивания многих дел, которые делались у нас в
отрасли. Обмена информацией практически не существовало. Что-либо узнавали о
работах других только на основе личных дружеских отношений.
Приехав на завод в Сафоново и побывав в цехах, я
остолбенел от мощи увиденного производства. Громадные цеха были заполнены стоявшими
безжизненными грандиозными станками для намотки изделий до 5 метров в диаметре,
их механической обработки и съема с оправок, на которых они наматывались. Все
это стояло, поскольку производство жидкостных ракет было прекращено и местные
товарищи искали работу на стороне, но изделия из композитов у нас мало кто
проектировал, несмотря на их громадное преимущество. Поэтому встретив нас и
увидев большую и важную работу, они с радостью взялись за нее.
Это производство было
создано по передовой технологии изготовления намоткой стеклотканью вместо
ручной ее выкладки, на которую я ориентировался. Для этого была разработана
специальная стеклоткань, у которой прочность по утку была выше прочности, чем
по основе. Этого нет ни у одной стеклоткани. И о ней я ничего ранее не знал.
Поэтому, придя на сафоновское производство, мы тем самым приобщились к наиболее
передовой технологии изготовления изделий из стеклопластиков. Для этого нам
пришлось перепроектировать нашу конструкцию обтекателя под их технологию и те
свойства материала, которые она обеспечивала ему в изделии.
Специалисты и руководители сафоновского завода активно
включились в реализацию наших идей. Эта были Курносов В. В., Кутько Ю. И.,
Работягин В. А., Криш-нев Л. И., Ремпель В.
Д., Работько С. И., Хананов А. З., Завилейский В. С., Рыжиков В. С.,
Виноградова Л. С., Доброва Т. А. и многие другие.
С заводом мы нашли очень быстро язык взаимопонимания
по всем вопросам, включая и материальные поставки. Это было начало перестройки
и уже тогда промышленность начинала подразваливаться, в силу чего снабжение завода
резко начало сокращаться. Заключая договор, завод попросил столько различных
вспомогательных материалов, инструмента и различной оснастки, что это многих
удивило, особенно снабженцев, потому, что просили даже металлические линейки,
чертилки и прочую мелочь. Но наше руководство, надо отдать ему должное, скрепя
сердце пошло на удовлетворение всех этих домогательств, ибо без этого новую
конструкцию создать было невозможно.
Наиболее трудоемкой работой была доработка стальной оправки
диаметром порядка 3,2 метра до нужных нам 4, 35 метра. Завод нам выделил одну
из многих лежавших без дела оправок, созданных для намотки контейнеров, и мы ее
дорабатывали до нужных размеров. В общем, техническая сторона решалась
нормально. Но для этого нужно было пройти рогатки ведомственного согласования.
Завод-то согласился, но нужно было оформить разрешение министерства химической
промышленности, которому подчинялся завод. Много мне пришлось походить по
тамошним коридорам и кабинетам, пока оформил все документы.
В этих работах от нас активное участие принимали
конструктора Давыдов О. И., Хромов А. А., Минаков А. В., Борисов А. П., от
отдела неметаллов Деревлев К. П., Иваненко А. В., Яншин Х. Я., Кудряшова Н. В.,
Кудрявцев А. М., Юникова Т. Г., от прочнистов Петраковский С. А., Грудзин А.
Г., Чередниченко О. И., от опытного производства Зарецков Ю. И., Половцев В. А.
и многие другие.
РАБОТА НА ЗАВОДЕ В САФОНОВО
Руководство всеми работами в Сафоново, у нас в КБ
«Салют» и на заводе им. Хруничева, по созданию обтекателя из стеклопластиков осуществляло
специально созданное техническое руководство из числа специалистов этих
предприятий. Его вначале возглавлял главный инженер завода им. Хруничева (ЗИХ)
Городничев Ю. П., а потом уже по другому изделию возглавлять его уже пришлось
мне. Я задумал перенести сборочные работы в Сафоново с тем, чтобы получать от
него не только заготовки из стеклопластика, но уже собранную оболочку. Но мне
это не удалось. ЗИХ построил в Сафоново сборочные стапели и мы начали обучать
их рабочих сборке. Но время уже совсем было «перестроечное» и местные рабочие
больше воровали инструмент у рабочих ЗИХ, которые их обучали, чем учились
собирать оболочки. Время поджимало и директор ЗИХ Киселев А. И. приказал снять
стапели в Сафоново и перенести сборку опять на ЗИХ. А стеклопластиковые
оболочки они делали в виде заготовок и передавали на ЗИХ для окончательной
сборки.
Техническое руководство раз в неделю выезжало в
Сафоново и там проводило свое заседание, на котором решались все узкие вопросы
с тут же принимаемыми решениями. Это очень оперативная форма организации
сложных работ при участии нескольких организаций. Одно из таких технических
руководств проводил на ЗИХ, заместитель министра Шишкин, поскольку намечался
срыв сроков. Тогда все было под жестким контролем и давлением сроков.
На этом совещании я высказал идею, что нужно
сафоновский завод забрать из министерства химической промышленности в наше министерство
общего машиностроения, поскольку предстоит большой объем работ по различным
стеклопластиковым оболочкам кроме обтекателей и нам трудно будет увязывать все
в Минхимпроме. К моему удивлению эта идея возобладала в Минобщемаше и они
убедили Совмин передать этот завод нам. Состоялось решение правительства и
министр, тогда был Бакланов, поехал в Сафоново принимать этот завод.
Это была грандиозная поездка. Министр взял с собой
своих замов и начальников основных главков, а также директоров основных НИИ.
Поехал с ним и Полухин. От нас он взял с собой только одного меня.
Кортеж машин собрался у Голицино, куда все начальники
съехались из дач. Всего набралось машин десять — все черные «Волги» с министерской
«Чайкой» во главе. И вот здесь сразу же началось твориться сумасшествие. Машины
выстроились в ряд одна за другой с интервалом метра три — не больше. И началась
гонка. Машины шли со скоростью не менее 120—130 км в час, не меняя интервала
между собой. Как только приходилось тормозить вся эта стая, как будто связанная
одной веревкой, то тормозила, то тут же набирала скорость, не меняя интервала
между машинами. Мне было страшно сидеть в машине. Я проездил больше сорока лет
за рулем своей машины. Всякого видел и на дороге и за своим рулем. Но такой
сумасшедшей гонки я не видел, а тем более не участвовал в подобном. Страх
вызывала не сама скорость, а тот мизерный интервал при такой скорости. Но нужно
отдать должное шоферам — это были профессионалы высшей квалификации. А такая
езда с шиком в одной связке — это у них считалось делом чести и показом того,
кого везут. По всей трассе милиция встречала колонну по стойке смирно вдоль
дороги с поднятой рукой в отдании чести. Обычно в автобусе мы проезжаем эти
триста километров за пять часов. Здесь мы промчались за 3,5 часа. Потом я ездил
на «Тойоте» по этой дороге в Сафоново и за три часа, но такого неприятного осадка
не осталось.
На границе со Смоленской областью нас поджидала другая
«Чайка». Это выехал встречать Бакланова секретарь смоленского обкома партии. Он
пересел в машину Бакланова и колонна во главе с двумя «Чайками» двинулась
дальше в прежней манере и с прежней скоростью. К тому времени я уже как-то
обвыкся и нога уже перестала самопроизвольно жать на «тормоз». Это рефлекс
непроизвольной реакции у всех шоферов, едущих не за рулем.
В Сафоново на заводе было обычное дежурное мероприятие
с собранием партийно-хозяйственного актива, как тогда водилось. Были взаимные
заверения и взаимные обещания. Но завод от перехода в Минобщемаш здорово выиграл
и в окладах и в снабжении. Все были в приподнятом настроении и с радужными
надеждами. Во многом они тогда оправдались. А это мероприятие еще раз
красноречиво показало, что если хочешь, чтобы твоя идея реализовалась, сделай
так, чтобы она и была идеей начальства. Таково
было время и таково было начальство. Поэтому и рухнуло все у нас, а начальство
стало демократами и дорвалось до такой «малины», о которой и не мечтало.
Перевод сафоновского завода в Минобщемаш значительно
упростил наши взаимоотношения и ускорил дело. У нас теперь было общее руководство
и аппарат министерства активно занимался делами этого завода по всем направлениям.
И технические руководства у них теперь протекали тоже более оперативно и ответственно
со стороны сотрудников-сафоновцев. В общем, мы часто туда ездили и стали
хорошими друзьями. После смерти его директора — ветерана этого завода Курносова
Виктора Васильевича, который принимал активное участие в его строительстве и запуске,
там началась чехарда с высшим руководством завода. Так они и влетели в пореформенное
время с неустоявшимся руководством. Сейчас там, практически, уже мало кто
остался из тех, с кем мы осваивали производство оболочек из стеклопластиков для
обтекателей и корпуса модуля «Полюс». Об этом модуле очень мало писалось в
прессе и о нем следует рассказать несколько более подробно.
Сейчас сафоновский завод растащили на малые
предприятия. Все они кувыркаются, пытаются выжить, но что-то плохо у них
получается. Наше производство по изготовлению оболочек находится в заводе и живет
он, в основном, за счет наших заказов на оболочки для обтекателей.
Работы по созданию стеклопластикового обтекателя велись
весьма активно всеми участниками. У меня они отняли много сил и нервов. Я уже
был готов отказаться от дальнейших работ по внедрению углепластиков в наших
конструкциях и сдаться. Но Давыдов О. И. настоял на продолжении этих работ и я,
несколько отдохнув, согласился. Ко времени описываемых событий, Давыдов был уже
начальником отдела.
В 1982 году, когда Полухин назначил меня начальником
отделения и когда я решил вновь вернуться к композитам после корпуса головной
части, я не знал отстал ли я за эти 20 лет в области композитов и если отстал,
то на сколько за эти годы, в течение которых на предприятии не занимались
композитами.
В это время Сибирский филиал АН СССР организовал в
Новосибирске Всесоюзную конференцию по композитам и я туда поехал. Прослушав все
доклады, я понял, что наука и практика в композитах далеко не ушла. На заключительном
заседании в своем выступлении я это отметил и дал небольшую историческую
справку по композитам. Но, главное, я сформулировал перед ними основную задачу,
без решения которой композитоведение во многом будет оставаться эмпирической
наукой. Она состояла в следующем.
Необходимо создать в первую очередь микромеханику
полимеров, изучающую физико-механическое и химическое взаимодействие матрицы и
наполнителя, которая связала бы выявленные закономерности с физико-механическими
свойствами получаемого материала и выработала на их основе научно обоснованные
рекомендации по технологии переработки полимеров в композиты. Затем нужно иметь
макромеханику композитов, изучающую конструктивные и прочностные свойства
конструкций из углепластиков на основе теории анизотропных структур, которая
должна связать полученные закономерности в микромеханике со свойствами
агрегатов из композитов. Мое выступление было отмечено и вызвало интерес.
Когда после этого я
писал свой лекционный курс по композитам и перерыл гору литературы, то увидел
массу разрозненных публикаций по этим вопросам. Но я так и не смог их собрать в
единую канву высказанных соображений. По-моему обобщенных таких работ нет и до
сих пор.
Возвращаясь назад с конференции, рядом со мной в
самолете оказался молодой болгарин, хорошо говоривший по-русски. За дорогу я
его так разговорил, что к концу полета у него еле ворочался язык. Но то, что он
рассказал мне, повергло меня в шоковое состояние.
Он работал в Болгарии в проектном НИИ в фирме по
строительству большегрузных танкеров до 300 тыс. тонн водоизмещением. Эта фирма
являлась головной для всех стран СЭВ и где теперь эта фирма?! Мой собеседник
являлся ведущим по проекту, заключал контракты на заказ проекта, сам
распоряжался финансами и набирал на временную работу под заказ нужных
специалистов на временную работу по разработке проекта.
Разработку они вели с помощью автоматизированных
программ на ЭВМ, которая бесчертежным методом передавала на станки все необходимые
сведения для изготовления деталей и узлов танкера. Чертежи ЭВМ выдавала только
на сборку секций и корабля в целом. Это звучало для меня как фантастика. И это
все было уже тогда в маленькой Болгарии! Насколько мы уже тогда отстали от
передовых методов проектирования!
Приехав домой, я убедил руководство срочно
организовать бригаду по освоению автоматизированного проектирования и предложил
Давыдова на должность ее руководителя. Он занялся освоением машинной графики,
которая сейчас и развивается. Одновременно я уговорил Бахвалова Ю. О. и Громова
С. Н. разработать единую автоматизированную программу расчета, конструирования,
выбора оптимальной формы конструкции и материалов с последующей выдачей рабочих
чертежей для какого-либо агрегата. Они выбрали межступенную ферму и создали
такую программу, которая прекрасно работала. Но это направление в нынешней
автоматизации проектирования не получило дальнейшего своего развития и
продолжения, а меня самого затем вообще «отодвинули» от автоматизации проектирования.
Сейчас, спустя почти 20 лет, у нас разработаны
обтекатели уже из углепластика для «Бриза-К» и «Рокота», а затем уже и
универсальный головной обтекатель в комбинации углепластика и стеклопластика. К
сожалению, приказ о поощрении участников работ по первому стеклопластиковому
обтекателю, составленный Давыдовым в то время, так и лежит у меня в столе до
сих пор, как немой укор мне в том, что я не смог его «пробить» в то время.
После обтекателей использование углепластиков у нас в
конструкциях нашло широкое распространение и не думаю, что еще какая-либо ракетно-космическая
фирма может сравниться с нами по объему внедрения композитов. Это фирменное
лицо наших каркасников, к сожалению, нигде и никем не отмечаемое. У нас
сложилась прекрасная кооперация не только с Сафоновским ПО «Авангард», но и с
ОАО «Композит» в г. Калининграде, НПО «Технология» в г. Обнинск, НИИС в г.
Хотьково.
МОДУЛЬ «ПОЛЮС»
Прежде чем о «Полюсе», несколько слов о той
обстановке, которая царила в то время у нас в отрасли. После смерти Челомея
наше КБ передали в качестве филиала в состав НПО «Энергия». Основной повод был
в том, что мы с ними активно сотрудничали в создании орбитальных станций и
модулей к ним. Но главная аргументация состояла в том, что к тому времени дела
по созданию ракеты-носителя суперкласса «Энергия» двигались довольно успешно и
нужно было создавать полезные нагрузки для этого гиганта. Иначе эта ракета
осталась бы без полезных нагрузок и оказалась бы никому не нужной. Что в итоге
и получилось впоследствии. Эта ракета была спроектирована не как
ракета-носитель, а как ускоритель. Она не могла выводить полезные грузы на
орбиту. Для этого нужно было еще разогнать объект до первой космической скорости,
а в составе ракеты не было разгонной ступени. Ее не предусмотрели и каждой
полезной нагрузке нужно было самой себя выводить на орбиту. Это был грандиозный
технический просчет. Вот и задумывалось, в качестве исправления этого ляпсуса
поручить нашей фирме сделать такую полезную нагрузку, которая сама себя выведет
на орбиту. Эту работу можно было делать и не передавая нас в «Энергию», но это
была двойная игра.
После перевода Полухин всячески затягивал разработку
этих полезных нагрузок или на этот счет было негласное указание. Очевидно,
где-то была поддержка. Но все же мы приступили к проектированию полезной
нагрузки, которую назвали модуль «Полюс». Этот модуль устанавливался вместо
«Бурана» на те же посадочные места, на ракете «Энергия», и его масса была 100
тонн.
Основное назначение этого модуля было — выведение на
орбиту мощного телескопа, который нам предстояло создать вместе с модулем.
Каркас этого телескопа пришлось проектировать нам, каркасникам. Но ведь каркас
телескопа и каркас летательного аппарата – это две принципиально различные
конструкции. Если для летательного аппарата основное — это прочность при
минимальном весе, то для каркаса телескопа основное — геометрическая
стабильность при минимальном весе. Пришлось освоить методологию проектирования
и геометрически стабильных конструкций. На это дело я поставил молодого Бахвалова
учиться не только проектированию, но и взаимоотношению со смежниками, которых
было предостаточное количество при проектировании нового для нас объекта. Он
прекрасно справился с этим и практически сформировался на этой работе как
руководитель. Но, к сожалению, он не смог защитить диссертацию на этой очень
интересной и оригинальной работе.
Для оптимизации веса я предложил составить и решить
совместно систему уравнений, определяющих вес корпуса в зависимости от действия
на него различных внешних воздействий при соблюдении требований по геометрическим
его параметрам. Решение этой системы позволило определить, что наиболее оптимальным
материалом для таких конструкций является углепластик. Нам было приятно, что
американцы тогда проектировали свой телескоп «Хаббл» и тоже пришли к такому же
выводу. Но когда, по моему совету, Бахвалов представил свою диссертацию на защиту
в высокоматематизированный Ученый совет в Реутово, так там один профессор на полном
серьезе заявил, что в этой диссертации нет ни одного уравнения второго порядка
и ни одного интеграла. Он таких диссертаций еще не видел и не считает возможным
принять к защите. После этого, совет не принял-таки к защите эту диссертацию и
предложил доработать, введя расчет на прочность. Непонятно только зачем для конструкции,
которая проектируется по жесткости, приводить в диссертации расчет на прочность
как в дипломном проекте. В ней был обобщен весь наш опыт разработки и
экспериментальной отработки геометрически стабильных конструкций. Она была бы
крайне полезной для инженерной практики. И что самое интересное, так это то,
что при окончательной контрольной проверке геометрических параметров корпуса в
оптическом стенде, результаты практически полностью совпали с нашими расчетными
величинами по всем параметрам. Но затем наступили реформенные времена и диссертации
уже никому стали не нужными. Вот так и эта работа осталась неизвестной широкой
технической общественности из-за того, что «за науку мы интегралы только
признаем».
Не меньше проблем у меня было и с разработкой корпуса
самого модуля. Дело в том, что внутри корпуса нужно было монтировать многотонное
и крупногабаритное оборудование, а для этого нужно было резать корпус на большое
число мелких отсеков. У меня возникла идея разрезать корпус не только поперек
на небольшое число отсеков, но и вдоль по всей длине корпуса. При такой схеме
членения корпуса все оборудование монтируется в его нижней половине, а потом
накрывается сверху второй половиной. Это очень облегчило и упростило
производство, но потребовало затратить на это дополнительно 770 кг веса. Но он
окупился удешевлением производства. Сам корпус мы сделали из стеклопластика и
заготовки оболочек делали в Сафоново. По ним я и возглавлял техническое
руководство у них.
Модуль мы сделали прекрасный и установили на нем
первый экземпляр нашего стеклопластикового обтекателя. «Энергия» хорошо стартовала,
сбросился наш обтекатель, сработавший без замечаний. А вот сам модуль после его
отделения от ракеты, мы вместо того, чтобы разогнать и вывести на орбиту,
утопили в океане. Оказалось, что в системе управления были перепутаны концы
проводки и вместо того, чтобы поступила команда на разгон модуля, была подана
команда на его движение в сторону Земли.
Вот так бесславно кончилась судьба нашего модуля
«Полюс» и ракеты «Энергия». Хотя наш модуль можно было бы сдублировать, но вся
эта программа «Энергия» вместе с «Бураном» и нашим «Полюсом» были закрыты.
Наступили рыночные времена и все, что требовало денег было выброшено. Деньги
были нужны для набивания карманов новой буржуазии, вышедшей из недр руководящей
элиты КПСС всех уровней.
Мне очень жалко было нашего каркаса телескопа. Ведь мы
много труда положили не только на освоение проектирования таких специальных
конструкций, но и на разработку своей оригинальной конструкции. Это был первый
отечественный телескоп из углепластика. Но наш лежит на дне океана, а у
американцев «Хаббл» успешно летает на орбите. Они даже сумели его капитально
восстановить на орбите и он передал фотоснимок зарождения новой звезды на
расстоянии 1,5 миллиона световых лет. Это впервые глаз человека проник на такую
глубину в космос. А он там такой же, каким видится нам и из нашей планеты. Но
об этом у нас молчат. Я случайно увидел этот снимок по телевидению. А решать-то
нам пришлось с американцами одни и те же проблемы при создании корпуса
телескопа. Для земных телескопов принято в нормальной практике соотношение веса
корпуса к весу оборудования, устанавливаемого на нем для обеспечения
функционирования всего телескопа, как 10:1. Для космических телескопов это соотношение
ровно наоборот — 1:10, т. е. вес корпуса должен быть в десять раз легче
оборудования. И при этом нужно было выдержать те же жесткие требования по
геометрической стабильности корпуса. Но главное при этом необходимо было
сохранить эти параметры в космосе, где воздействия окружающей среды космоса
значительно более жесткие, чем на земле. Мы все это преодолели, но пока все это
у нас на фирме не востребовано.
ПОЕЗДКИ В САФОНОВО
Работа
в Сафоново по изготовлению оболочек из стеклопластиков требовала очень частых
поездок туда. Они изобиловали различными событиями и впечатлениями. О поездке в
кортеже министра я описал несколько раньше. Но были и другие разные события.
Все эти автомобильные поездки, как правило, на
обратном пути во время ужина, или, как говорили, вечернего перекуса,
сопровождались небольшим возлиянием, не выходящим за пределы приличного. Из них
запомнились два случая.
В одну из поездок
поехал Полухин, Востриков, я и главный технолог Половцев. Перед отъездом Востриков
забежал в «генеральскую» столовую и взял какую-то коробку в машину. Оказалось
это была подготовлена закуска на четырех с коньяком. На обратном пути мы
довольно хорошо поужинали. Во время ужина тогда и решилась карьерная судьба
Юрьева. Я уже о нем упоминал. К тому времени он своим неуживчивым характером и
ортодоксальным упорством в отстаивании своего мнения крепко достал Вострикова и
он, очевидно под воздействием выпитого, покатил бочки на Юрьева. Ведь когда мужики
выпьют, то в зависимости от интеллектуального уровня они говорят либо о работе,
либо в женщинах, либо в футболе, либо обо всем этом сразу. Мы, конечно,
говорили о работе. Полухина долго не нужно было убеждать и он тут же принял решение
об освобождении Юрьева от должности начальника отдела и поручил мне подготовить
соответствующий приказ.
Я начал упрашивать Полухина не делать этого. Что я
доработаю то, что Юрьев иногда не дорабатывает или делает не то. Мне жалко было
Юрьева. Ведь мы были однокашниками и если не друзьями, то в хороших товарищеских
отношениях. Студентами мы с ним часто ходили по утрам на занятия в Померки в
Харькове спортивной ходьбой. И едущие на трамвае студенты подбадривающими
возгласами дружески поддерживали нас. И вот теперь я должен был писать приказ
на него. Я сопротивлялся как мог, но Полухин был неумолим и начинал уже злиться
от моей настойчивости. Приехав, я еще некоторое время потянул с приказом, но
здесь уже Востриков не дал мне заволынить это дело. Так Юрьев был снят.
Второй случай был с черным юмором с моей стороны. Так
же остановившись на обратном пути в лесочке на перекус, разлили выпивку по
стаканам. А я отказался. Я вообще мало пью, а тогда у меня неладно было с
желудком. В то время было только-только начало перестройки и во всю громыхала
кампания по борьбе с пьянством в быту и на работе. И вот в это время высшие
руководители предприятия начинают выпивку, несмотря на ведущуюся кампанию, а к
тому времени уже были публичные снятия руководителей за выпивку. На вопрос о
том, почему я отказываюсь, я сразу ответил, что это для того, чтобы вы знали
из-за кого вас завтра вызовут в райком партии. На эту, с позволения сказать,
шуточку никто не знал как реагировать. У всех вначале было полуудивленное и
какое-то растерянное выражение лица. Но кто-то быстро нашелся и тут же предложил
связать меня и залить водкой, что бы неповадно было ходить в райком. Все
рассмеялись, а я понял неуместность такой шутки.
Вообще же мне в
бытность начальником отделения пришлось готовить, к сожалению, не один приказ о снятии начальников моих отделов, а не только
одного Юрьева.
Первым пришлось мне, под давлением Полухина,
освобождать Холмогорова от должности начальника отдела, а Рейтера и Захарова от
должностей начальников конструкторских бригад из-за их пенсионного возраста,
несмотря на то, что им было еще далеко не по
70 лет и они были вполне работоспособны. А так, они оставили конструкторскую
работу, уйдя кто куда. На место Холмогорова был назначен Давыдов О. И.
Кстати, на место Юрьева был назначен Бахвалов Ю. О.
Затем, уже под давлением Вострикова, мне пришлось
писать приказ об объединении отделов Давыдова и Бахвалова, но уже с назначением
начальником объединенного отдела не одного из них, а одного из конструкторов —
Оленина И. Г., который затем проявил себя неплохим начальником отдела. В
объединении отделов не было никакой необходимости. Вскоре их опять разъединили,
а тогда нужно было просто убрать этих двоих «потенциально опасных» людей,
которые потом и подтвердили свою «опасность», став заместителями Генерального
конструктора.
КОНВЕРСИЯ
ПО-БАКЛАНОВСКИ
К концу советской власти у нас министром был Бакланов
О. Д., который вскоре ушел секретарем в ЦК, став потом одним из
членов-гкчепистов. Ощущая надвигающиеся перемены в государстве, он разработал и
стал осуществлять по-настоящему конверсию оборонных отраслей так, как это
должно было бы быть при разумном подходе к делу.
Эта конверсия осуществлялась следующим образом. В
нашем ракетно-космическом комплексе все Генеральные конструктора были одновременно
назначены главными конструкторами одной или нескольких групп отраслей легкой
промышленности, а сама легкая промышленность расформировывалась. Все задачи
конструирования, изготовления оборудования для пищевой и легкой промышленности
закреплялись за конструкторами и промышленными производствами нашей отрасли.
Так, наш Генеральный конструктор Полухин был назначен одновременно главным конструктором
оборудования для хлебопекарной промышленности, Конопатов был назначен главным
конструктором оборудования для мясоперерабатывающей промышленности и так далее.
Нам, конструкторам предстояло осваивать проектирование,
помимо космических кораблей, еще и проектирование этого нового типа для нас
оборудования. Первое же знакомство с этой техникой показало, что эта промышленность
является не такой уж и «легкой». Чтобы ее проектировать нужно было постичь
немало новых приемов конструирования, освоить ряд новых материалов и
техпроцессов с тем, чтобы разрабатываемое оборудование отвечало современным
требованиям по качеству и производительности. Разработчикам ракетно-космической
техники было над чем поработать.
В нашей организации не стали ломать свою структуру, а
всю разработку конструкций закрепили за соответствующими функциональными
подразделениями по их тематической принадлежности. Во главе руководства всех
конверсионных работ назначили заместителя Генерального конструктора, которым
стал Иванов Виталий Николаевич, только ушедший с должности начальника 1-го
главка Минобщемаша, которому подчинялась наша фирма. Оперативное руководство
разработками такого оборудования стала осуществлять специально созданная группа
ведущих конструкторов во главе с Ширяевым В. И., нашим кадровым сотрудником и
опытным ведущим конструктором.
Для первой пробной разработки взяли автоматизированную
линию по выпечке хлебных палочек, положив за основу итальянскую линию. Многое
пришлось нашим конструкторам разрабатывать впервые.
Мне, у которого в подчинении был отдел неметаллических
материалов, пришлось вплотную заняться проблемой транспортерных лент для
разрабатываемой линии. Дело в том, что наша отечественная промышленность за все
советское время так и не освоила изготовление полимерных транспортерных лент
для пищевой промышленности. Когда я объездил основные хлебозаводы и
кондитерские фабрики Москвы, то ужаснулся от того, что у них творилось на
транспортерах с полимерными лентами. Каких там только лент не было — от тяжелых
прорезиненных лент для угольных комбайнов до лент, нарезанных из столовых клеенок. И все они, как правило,
не имели медико-санитарного паспорта о допуске к контакту с пищевыми
продуктами. Некоторые имели швейцарские транспортерные ленты всемирно известной
швейцарской фирмы «Хабазит». Но это были те счастливчики, которым выделялась валюта
для приобретения лент. Но таких предприятий было мало.
Вот я и решил, что нам — ракетчикам стоит создать
свою, отечественную транспортерную ленту для пищевых продуктов. Мы и не такое
создавали! От нас этим делом стала заниматься Алла Викторовна Иваненко. Это ей
Бакланов, будучи в Сафоново, говорил, что если у нее будут трудности в
нанесении теплозащиты на наш первый стеклопластиковый обтекатель, то чтобы она
лично звонила ему. Но этого, конечно, не
потребовалось ни ей, ни кому-либо
другому. Со всем мы справились сами.
К разработке транспортерной ленты мы привлекли наших
смежников по ракетным делам по сложившимся в советское время методам взаимодействия.
В г. Иваново в Институте искусственных кож за это взялись Кузнецов А. К. и
Чернова Н. Л. Они разработали необходимое полимерное связующее и получили в
Минздраве допуск на его контакт с пищевыми продуктами, проведя немалый объем
специальных исследований. На московском заводе технических тканей разработали
необходимую ткань соответствующего прядения. А на подмосковном заводе в Хлюпино
стали изготавливать ленты по нашей технологии и из наших материалов.
Производство велось на машинах для изготовления линолеума, поскольку других
более подходящих машин у нас не было. Первые попытки в опробывании таких лент в
лабораторных условиях дали блестящие результаты.
Изготовление нашей линии задерживалось в производстве
и к этому времени как раз рухнула Советская власть и у нас началось внедрение
капитализма. Мне показалось тогда, что наконец-то личная деловая активность в
производстве получит настоящую свободу. И я уже в январе 1992 года
зарегистрировал свое акционерное общество закрытого типа «Леком» по производству
транспортерных лент для пищевой промышленности и научно-методического
обеспечения промышленных производств. Учредителями стали КБ «Салют» и пять
физических лиц, а я стал его Генеральным директором, не оставляя своей
должности на предприятии.
После этого, я обратился к главным инженерам некоторых
хлебозаводов и кондитерских фабрик Москвы с предложением разработать для них по
их требованиям транспортерные ленты и поставлять такие ленты. Все они горячо откликнулись
на это предложение. У нас установились хорошие деловые отношения и они выделили
аванс на начало изготовление таких лент.
Изготовленные в Хлюпино и установленные на транспортерах этих предприятий
ленты вначале работали хорошо, причем на транспортерах различного типа. Все
были очень довольны. Но с течением времени ленты начали перекашиваться и по ним
шла косоугольная волна. Стало очевидным, что длительная прочность связующего на
сдвиг была недостаточной, поскольку оно в своей массе, находилось в аморфном, а
не в кристаллическом состоянии. Для большего перевода полимера в
кристаллическое состояние нужно было поднять температуру полимеризации при
изготовлении лент. Но такого оборудования в нашей промышленности не оказалось и
мы поняли, почему при Советской власти у нас не появилось транспортерных лент
для пищевой промышленности. Таким образом, мы потерпели фиаско в попытке
создать отечественную транспортерную ленту для пищевой промышленности.
За свою долгую практику мне пришлось браться за
разработку, практически, только пионерских задач, не имевших ранее решений. И
ни разу ни в одном деле я не терпел фиаско. Мне всегда удавалось решать поставленные
задачи. Это был первый и единственный случай моего провала. Вот вам и «легкая»
промышленность!
После этого, наш «Леком», практически, закончил свою
деятельность. Мне пришлось его использовать, когда возникли трудности в создании
криогенной теплоизоляции для разрабатывавшегося нами разгонного блока для Индии.
Через него я собрал группу нужных специалистов из различных НИИ и мы успешно
решили эту задачу.
Организованная мною разработка криогенной
теплоизоляции и производство по ее нанесению через малое предприятие вызвала у
одного из наших руководителей крайнее недовольство и вскоре я был вызван к
заместителю прокурора г. Москвы со всеми бухгалтерскими документами по
«Лекому». Не найдя никакого криминала, он отметил профессионализм в составлении
Устава «Лекома» и был немало удивлен когда узнал от меня, что его я составлял
сам, проработав соответствующую литературу.
В процессе этой работы по криогенной теплоизоляции мы
воочию показали высокую эффективность подбора через малые предприятия
специалистов разных организаций в единый временный творческий коллектив для
решения разовой задачи. Мы в своей группе использовали весь тот коллективный
опыт из того, что было уже накоплено в техпроцессе, а, главное, мы использовали
уже ранее отработанное напылительное оборудование для этого техпроцесса. Нам
поставили два комплекта такого оборудования и это решило дело. Этой работой мы
высокоэффективно оправдали создание «Лекома». Успешная разработка криогенной теплоизоляции
для индийского разгонного блока была высоко оценена директором опытного
производства Кондратовым А. В., главным конструктором блока Киселевым Л. И. и
ведущим конструктором Ширяевым Ю. М.
После завершения этой работы мы разработали ряд
технических предложений для сельского и других некоторых производств, надеясь
там найти поле приложений наших творческих усилий. Но в наступившей разрухе уже
никому ничего не было нужно. Досадно, что одна из наших идей по созданию из
композита рабочего колеса с покрывным диском для газовых компрессоров, так
никого и не заинтересовала. По оценке специалистов Казанского НИИ компрессоров,
если применить такие колеса в компрессорах, то можно было бы поднять
производительность магистральных газопроводов на 10—15%. На этом и закончилась
«блестящая» деятельность «Лекома».
Сейчас наш «Леком» лежит на боку в составе тех 200
тысяч таких же малых предприятий, которые находятся в таком же состоянии. Но
наш «Леком», очевидно, внесен в общегосударственный реестр и я иногда до сих
пор получаю просьбы о поставке транспортерных лет. Даже недавно из Ирана пришло
предложение о более тесном и всестороннем сотрудничестве.
Что касается конверсии по-баклановски, то она
приказала долго жить, поскольку оборонная промышленность стала растаскиваться,
а конверсия превратилась в грабиловку всего того, что нехорошо лежит.
Вскоре после этих работ у нас был образован
Космический центр благодаря активности и усилиям Анатолия Ивановича Киселева и
мы активно начали заниматься космической деятельностью.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В КОСМОСЕ
НАЧАЛО ПЕРЕГОВОРОВ
В массовой печати сообщалось, что в эту тотальную
разруху в нашем Отечестве космонавтика тоже стала никому не нужной. На мировом
рынке по запуску полезных нагрузок на орбиту нам также не дают дороги. Это
прекрасная иллюстрация ложности тезиса о вхождении новой капиталистической
России в мировой рынок как цели, ради которой разрушено наше Отечество. Это
была приманка, а на деле явный обман.
Применительно к космонавтике, наше КБ ныне далеко
вырвалось вперед по продаже Западу нашего интеллектуального багажа. Еще при
Полухине мы заключили с Индией контракт на разработку разгонного кислородо-водородного
блока для их ракеты. С его помощью их ракета сможет выводить на стационарную орбиту
груз порядка 1,5 тонн. Это будет большое достижение для Индии. Мы должны были передать технологию и изготовить два блока. Но США
подняли по этому поводу шум на весь свет, заявив, что мы не имеем права
передавать технологию двойного применения. В итоге наше правительство сдалось.
Кроме этого контракта, мы с Индией заключили еще ряд
других более мелких контрактов, в том числе на дооборудование их старта под кислород
с водородом для заправки нашего блока, а также на доработку их носителя, поскольку
наши специалисты увидели ряд существенных промахов в его конструкции.
С Германией заключили контракт на разработку и
поставку спутника с возвращаемым аппаратом в виде капсулы. На ней они хотели
проверить ряд своих материалов. Они отказались от того, чтобы мы его запустили,
договорившись с Японией. Японцы делали последний пуск своей ракеты, снимаемой с
производства, и завлекли немцев на запуск этого аппарата, получившего название
«Экспресс». С ним произошло интересное приключение. После пуска непосредственно
сразу же последовало сообщение, что спутник на орбиту не выведен и, не сделав
даже полного оборота, упал в океан. Все посокрушались неудаче и нам претензий
не предъявили, поскольку сразу же после отделения от носителя все системы
нашего спутника заработали и начали передавать телеметрию, а потом связь с ним
была утеряна на обратной стороне Земли.
Спустя полтора года в Африке появилось сообщение, что
в одном из местных племен найден какой-то космический аппарат неизвестного
происхождения. Сразу же начала развиваться версия о космических пришельцах. К аппарату
выехал сын вождя племени, который раньше учился в СССР и он без труда прочел на
аппарате наименование «Экспресс» и «КБ «Салют» на русском языке. Аппарат был в
прекрасном состоянии, совершил, как показали расчеты, два оборота вокруг Земли
и благополучно приземлился в Африке. Немецкие материалы тоже прекрасно выстояли
при спуске. Так, через полтора года выяснилось, что наш аппарат позволил
полностью выполнить намеченную программу исследований даже после того, как его
потеряли в космосе, в том числе и хваленная американская система контроля
космического пространства.
В числе других контрактов мы заключили с Бразилией
контракт на доработку их ракеты-носителя. Для них пришлось разработать и поставить
межступенной отсек с двигательной установкой стабилизации ракеты в полете. Эту
работу мы выполнили всего за год.
Еще при жизни Полухина и до объединения нас с заводом
в Центр, наше КБ заключило контракт на запуск западного спутника «Инмарсат». Но
дело с его реализацией было поставлено из рук вон плохо. Приехали иностранные
заказчики и привезли не только контракт, но и увязочные чертежи по связи
полезного груза с носителем. Руководил у
нас всем этим первый заместитель Генерального конструктора
Моисеев А. С. Хороший человек, но, очевидно, никудышний организатор. Он, даже
не представив меня гостям и не выходя к ним, попросил меня поговорить с ними и
обсудить их документы. Из документов я понял, что предстоит значительный объем
увязочных работ и нужно подключать многие подразделения предприятия. Но в качестве
кого я выступал в этом деле я не понимал и руководство этого не определяло.
Поэтому все эти документы я передал в проектный отдел, а там все это поручили
Бахвалову. Он уже раньше начал заниматься увязкой носителя с полезными грузами,
но без конкретной их привязки.
Уже после
объединения в Центр было заключено около десятка контрактов на запуск различных
спутников США и Европы на нашей ракете «Протон». Бахвалов стал главным
конструктором по увязке полезных грузов с носителем, часто бывает за рубежом,
стал видным специалистом и уважаемым человеком не только у нас, но и на Западе.
Однажды я предложил ему все-таки защитить диссертацию в другом Ученом совете.
Но он только посмотрел на меня с усмешкой, заявив — а кому она теперь нужна.
Наверное он прав.
Много
раз приезжали к нам китайцы. Они завлекали нас на участие в разработке их
аппарата с космонавтами. Мы по-братски все им показывали и рассказывали. Многое
узнав, они так ни одного контракта и не заключили. Они экономят деньги. Мне,
правда, подарили простенький транзистор, но работает он хорошо у меня на даче.
Благодаря
всем этим заказам наша фирма жила довольно сносно в финансовом отношении в это
смутное время. Но тем не менее пытаемся еще что-либо заполучить в разработку.
Королевская «Энергия» длительное время пыталась войти к американцам в
разработку их грандиозной орбитальной станции «Фридом», но безуспешно, пока к
этому делу не подключилось наше КБ. Генеральный директор Киселев А. И., будучи
в США, увидел возможность использования для этой цели наш транспортно-грузовой
корабль ТКС. Он вызвал к себе Карраска и Дермичева. Все вместе они там же разработали соответствующее
техническое предложение, которое и было принято.
ПОБЕДА ФИЛЕЙ
НПО «Энергия» пыталось предложить американцам наш
второй экземпляр станции «Мир», которую мы разрабатываем и изготавливаем по их
техническому заданию. Но это американцев не устраивало по многим причинам.
Главное было в том, что он считался бы российским блоком, с наращивания
которого начала бы строиться вся их станция. Тут были, конечно, амбициозные
причины, но и по техническим характеристикам он не во всем подходил для этой
цели.
У нас на Филях, еще при Челомее был разработан тяжелый
транспортный грузовой корабль ТКС для снабжения челомеевской орбитальной
станции «Алмаз». ТКС летал несколько раз под видом спутников под различными
номерами. В своей конструкции он имеет много отсеков для размещения полезных
доставляемых грузов на орбиту и несколько баков для топлива. В общем, это
хороший, крупный транспортный корабль, который за один раз доставляет на орбиту
почти в десять раз больше груза, чем пресловутые «Прогрессы», которые
используются сейчас для доставки грузов на станцию «Мир».
В разработанном предложении в основе американской
орбитальной станции находился блок, созданный на основе ТКС, который запускался
первым. С одной стороны к нему будет пристыкован наш «Мир-2» и к нему затем
будут пристыковываться наши модули и «Союзы». Это будет российский сегмент
станции. С другой стороны к нему будут пристыковываться американские модули,
привозимые их «Шаттлом». К ним затем
будут пристыковываться канадский, японский и европейские модули. Это будет американский
сегмент, а в целом это стала международная станция и она получила индекс МКС.
Каждая страна разрабатывает свой сегмент и модули за свой счет. А вот на разработку
центрального блока на основе нашего ТКС, американцы заключили контракт с
Филями. Этот блок получил название — функционально-грузовой блок (ФГБ) и будет
являться собственностью США и будет запущен с помощью нашей ракеты «Протон».
СОГЛАСОВАНИЕ КОНТРАКТА НА ФГБ
Обсуждение и
проработка этой идеи практически велась в течение всего 1994 года. Вместе с
Карраском В. К. эти работы от нас возглавил Шаевич С. К. один из способных
молодых специалистов набора 70-х годов. Потом Карраск отошел от этих работ в
оперативном плане, продолжая руководить проектными работами на Филях, а Шаевич
стал директором этой программы от нашей стороны. Главным конструктором ФГБ стал
мой «первый космонавт» Герасимов Николай Михайлович, который много сил отдал
этому модулю.
В США работа по этой станции построена в классическом
стиле рыночной экономики и на этой станции у них кормятся все, кто может.
Генеральным заказчиком является НАСА и оно получает деньги от Конгресса США.
Там этот вопрос обсуждается очень тщательно в соответствующих комитетах и
подкомитетах и определяются объемы финансирования. Затем НАСА заключило
контракт с фирмой «Боинг», которая стала генеральным подрядчиком по созданию
всей станции «Альфа». Фирма «Боинг» заключила контракт с фирмой «Локхид» на
разработку нашего ФГБ, а уже фирма «Локхид» заключила контракт с нами.
Фирма «Локхид» разработала подробнейшее техническое
задание (ТЗ) на разработку ФГБ в нескольких томах на тысячах страниц. В этом ТЗ
требования доведены до мельчайших технических деталей по всем системам, узлам и
условиям эксплуатации. Таких Т3 мы сами никогда не разрабатывали и нам никто
таких не выставлял, даже включая и всех других иностранных заказчиков, с
которыми нам пришлось работать. Особенно в Т3 уделялось внимание и выставлялись
требования по организации работ, порядку и форме отчетности и, главное,
методологии ведения проектно-расчетных работ. Все это предстояло тщательно
проработать и согласовать техническую сторону каждого пункта, а их, наверное,
было тысячи в общей сложности.
Шла напряженная совместная работа в течение полугода.
Много ездило наших представителей к ним и они к нам. Наши ведущие специалисты
теперь ездят в зарубежные командировки во многие страны чаще, наверное, чем
внутри страны. Но я по-прежнему невыездной и заграничного паспорта не имею.
Востриков объясняет это заботой о моем здоровье. У нас был случай, когда один
наш сердечник скончался в Германии в командировке. Это послужило поводом для
издания приказа о предоставлении справок о здоровье перед выездом за границу.
Но это, конечно, формальный повод.
После того как мы вникли в эту громадную гору
всевозможных требований, мы увидели, что Т3 хотя и громадное, но порядка в нем
мало. Многое повторяется, требования недостаточно систематизированы с
множеством описательных ненужных слов в таком техническом документе. Очевидно
они спешили и у них было мало времени на его редактирование. К тому же
чувствовалось, что они хотели нас поучить, а заодно и показать объем своей проделанной
работы.
Особенно много времени заняло согласование
методологических вопросов. Они требовали, чтобы создание нами ФГБ велось по
методикам и нормативной базе НАСА, а также действующим в США стандартам. Мы,
конечно, не могли с этим согласиться и пришлось сопоставлять стандарты,
методики расчетов и проектирования, а также изготовления и экспериментальной
отработки. Так что в процессе этой совместной работы специалистов произошло
фундаментальное ознакомление и совмещение научно-методологической базы двух
держав в одной из передовых отраслей техники, какой является космонавтика. И я
не скажу, что мы перед ними выглядели сирыми. Во многих вопросах была принята
наша методология.
Я занимался у нас руководством разработки корпуса,
интерьера, оборудования рабочих мест и средств фиксации космонавтов, применения
неметаллических материалов и обеспечения долговечности всего ФГБ. Так, что в
этой части я расскажу то, с чем пришлось мне столкнуться по своим вопросам
непосредственно. А в целом этот уникальный опыт сотрудничества двух технических
школ различных государств ждет еще тщательного анализа и описания.
КОРПУС
Когда НПО «Энергия» начинало свои переговоры по
станции «Фридом» они передали американской стороне перечень ГОСТов, по которым
работает наша отрасль и это во многом облегчило нам переговоры по корпусу. Я
думаю это был царский подарок американцам, поскольку получить такой перечень за
«так» не просто. И, главное, мы не получили аналогичный перечень от них. При
разговорах по корпусу уже не заходила речь о стандартах. Мы ссылались на этот
перечень. А их стандарты мы изучали каждый конкретно по рассматриваемому
вопросу.
Их крайне интересовала конструкция и чертежи. Мы
показывали все, что они просили. К концу 1994 года, еще до окончания
переговоров и заключения контракта, мы уже разработали чертежи на корпус и
передали их на завод. Локхидовцы просили передать им полный комплект чертежей,
но мы заявили, что это не входит в условия поставки ФГБ и отказали. Сошлись
всего на 1000 наименований разрозненных деталей и узлов без передачи полного
комплекта. Мы заявили, что это наше «ноу-хау». В этом случае они сразу же прекращают
переговоры, понимая, что за «ноу-хау» надо отдельно платить, а транжирить
деньги они крайне как не любят.
Особенно их интересовала наша система работ по
обеспечению герметичности корпуса, топливных баков и баллонов высокого
давления. Мы им, конечно, не рассказывали о нашем богатом накопленном опыте по
боевой тематике. Они были крайне удивлены тем, что у нас проводится
четырехкратная проверка на герметичность при изготовлении корпуса: при входном
контроле материала, поступающего на завод, отдельных деталей и подсборок,
собранного корпуса в целом в вакуумной камере и затем всего изделия на полигоне
после его транспортировки на полигон. Они этого у себя не делали.
Интерьер, оборудование рабочих мест и средства
фиксации их интересовали только с познавательной целью. У них еще мало опыта в
этом вопросе, чтобы как-то критически воспринимать эту тематику и здесь они
полностью прислушивались к нам.
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ
Американцы разработали целую систему отчетности по
разнообразнейшим вопросам, но не системно их сгруппировав, а врассыпную. Это не
позволяет системно сконцентрированно рассматривать проблему во всей ее
взаимозависимости. Поэтому и встречаются довольно часто повторения. Форму
отчета по каждому вопросу они составили в виде его проспекта, где излагают то,
что должно в него войти и требуют отчета по этой форме в нескольких редакциях
по мере накопления данных в процессе выполнения этой работы. Первая редакция
это по сути краткое изложение объема работ и их характеристика в описательной
форме. Мы в своей практике таких отчетов вообще не выпускаем. Эти сведения в
сжатом виде у нас входят в Т3 на работу и в отчет по ее завершению. А они
требуют разворачивать все это в писанину. Очевидно эта писанина нужна им для
финансистов, чтобы им показать объем работ, который нужно выполнить и за
который нужно платить. Каждому из таких документов присваивается свой номер и
его исполнение стоит на контроле и по нему в зависимости от выполнения
оформляется платежная ведомость за каждый этап контракта. В общем это не плохо
и позволяет более четко организовать и контролировать всю работу.
Вот и по трещиностойкости по такому документу у нас с
ними началась война с конца 1994 года и завершилась только в апреле 1995 года.
Наши, а точнее мои возражения по этому вопросу, включали в себя два аспекта.
Первое состояло в том, что американцы, придавая
большое значение долговечности и надежности ее обеспечения ложили в ее основу
прочность корпуса, которая, как они считали, в основном, определяется
трещиностойкостью. По этому вопросу я разработал и представил им в августе 1994
года материал, в котором показал, что принятие только одной прочности во
внимание при обеспечении долговечности и безопасности изделия будет
представлять собой весьма узкий подход. Во время полета на борту происходит
большое количество различных других физико-химических процессов в материалах,
агрегатах и системах, которые будут иметь не меньшее значение для безопасности
и срока службы изделия. Это будут как бы внутренние факторы, влияющие на
долговечность изделия. Но есть еще и внешние факторы, воздействующие на изделие.
Это факторы космического пространства, определяемые вакуумом, температурой,
корпускулярным излучением Солнца, проникающей радиацией, атомарным кислородом,
электромагнитными полями вокруг корабля. По всем этим вопросам они требовали
отчетности. Но, как я говорил, врассыпную, без взаимосвязи и комплексного их
рассмотрения. Это несколько поколебало их, но не убедило.
Второе мое возражение состояло собственно в
методологическом подходе определения трещиностойкости и способа ее учета в
определении срока службы изделия. Как нам сообщал ранее наш главный прочнист
Петроковский С. А., многократно бывавший в США в различных фирмах и приобретший
там заслуженный авторитет, что подходы в обеспечении прочности корпусов у них и
у нас принципиально различные. У нас производится расчет общего
упруго-напряженного состояния корпуса, оценивается его общая и местная
прочность, а затем расчеты проверяются путем проведения статических испытаний
специально изготовленного корпуса, доводя его до разрушения. Кроме того
проводятся усталостные, динамические, тепловые и акустические испытания на
других изделиях. Это пришло в ракетную технику из авиации.
Американцы никаких статических испытаний специального
изделия не проводят. Они обтягивают эксплуатационными нагрузками летное
изделие, не доводя до разрушения, и на этом экономят деньги. А вместо
усталостных испытаний проводят расчет на трещиностойкость и для проведения этих
расчетов требовали от нас массу исходных данных по материалам, конструкции,
технологии изготовления, проверке на герметичность и т. п. Кроме того, они
требовали разработки комплексного плана работ по трещиностойкости, в котором
нужно было объединить все эти работы. Я утверждал, что такой план нужен, но
более широко охватывающий все аспекты обеспечения долговечности, а не только трещиностойкости.
Наши уговоры о том, что мы обеспечим гарантированную
прочность нашим подходом, не давали результата. Они твердо стояли на своем.
Если по поводу объема и наименования комплексного плана я их как-то поколебал,
то в вопросе трещиностойкости они стояли твердо на своем, считая, что они
должны иметь твердую уверенность в гарантированной длительной прочности
корпуса. Если мы не можем провести расчет на трещиностойкость, то они сами его
проведут по нашим исходным данным. Создалась патовая ситуация.
Мне было известно, что у нас знания теории
трещинообразования используются для квалификации первопричин разрушения
материалов, качества самого материала и характера используемых технологических
процессов. Мы же конструктора механикой разрушения на уровне теории вязкостного
разрушения, с этой точки зрения, применительно к трещинообразованию не занимались
и никаких расчетов по трещиностойкости не проводили. Но вместе с тем, в
литературе начали появляться работы по расчетам на прочность композиционных
полимерных материалов на основе теории трещиностойкости. Поэтому я покопался в
литературе и увидел, что в области металлических сплавов у нас в стране в
различных НИИ проводится большая работа по исследованию и обеспечению
трещиностойкости металлов и сплавов. Я написал по этому поводу реферат с приведением
обширной библиографии и показал, что используемый у нас алюминиево-магниевый
сплав АМГ-6 является наиболее трещиностойким. Этот реферат я передал при
следующей встрече американской стороне в качестве личного презента и это решило
дело. Они успокоились. Потом я узнал, что НПО «Энергия» передало им еще раньше
образцы сплава АМГ-6 для обследования в США. Посмотрим как совпадут их
результаты с отечественными.
МАТЕРИАЛЫ
Не меньше чем по трещиностойкости велось утрясание
вопроса, касающегося оформления применяемости материалов. Американцы очень
внимательно, так же, как и мы относятся к правильности выбора материалов с тем,
чтобы они обеспечили необходимую работоспособность деталей и узлов в заданных
условиях эксплуатации. Они представили свою форму оформления протокола
применения на каждый материал для каждой детали. Мы еще раньше, когда обсуждали
этот вопрос в НПО «Энергия», по всему российскому сегменту представили свою
форму. В принципе они мало чем отличаются и американцы согласились с нашей. Но
наши представители тогда согласились с тем, что мы передаем им все протоколы
применения на все детали со всей гаммой сведений, которые мы туда вносим, когда
их заполняем для внутреннего использования. В эти сведения входят данные по
составу, условиям эксплуатации, технологии изготовления, режимам и результатам
испытаний. Но это уже было такое «ноу-хау», что никак не входило в объем
контракта. За нашими представителями тогда в «Энергии» не было должного
контроля и они проглотили эту наживку. И по этому вопросу возникло напряжение.
Они аргументировали свою позицию тем, что наши представители уже подписались
под этим ранее и в этом была слабость нашей позиции.
Я настаивал
на заключении отдельного контракта на передачу этих сведений, поскольку из этих
материалов и по этим техпроцессам изготавливаются и другие наши изделия, а не
только ФГБ. Они согласились рассмотреть этот вопрос, но потом отказались от
дополнительного контракта. В ответ мы отказались передавать эти сведения.
Консенсус достигли на том, что мы передаем им укрупненные данные, обобщенные по
группам материалов с приведением только номеров техпроцессов изготовления. Для
этого была согласована соответствующая новая форма протоколов. После их
рассмотрения у себя они еще раз вернутся к вопросу заключения дополнительного
контракта.
Этот пример
наглядно показал неумение наших специалистов вести себя на переговорах в
рыночных отношениях. Наши люди, будучи воспитаны в духе коллективизма и
взаимопомощи, не считая затрат, по своей простоте душевной стараются выложить и
рассказать все, что они знают стремясь по-братски поделиться своими знаниями. А
некоторые для того, чтобы блеснуть перед своими зарубежными коллегами своей эрудицией.
Но они еще не привыкли к тому, что эти их знания являются неоценимым товаром и
разбрасываться ими в рыночных отношениях негоже.
МИКРОМЕТЕОРИТНАЯ ЗАЩИТА
При
длительном полете на орбите начинает сказываться возможность столкновения
аппарата с микрометеоритами, а теперь уже и с космическим мусором, который образуется
из отделяющихся элементов от бесчисленного множества летающих космических
объектов, выведенных на различные орбиты. На иллюминаторах станции «Мир»,
летающей уже девять лет, с наружной поверхности появились кратеры диаметром до
5 мм от соударения с микрометеоритами. Поэтому на станциях «Салют» и «Мир», а
также и на модулях к станции «Мир» мы установили снаружи микрометеоритную защиту. Она устанавливается
в наиболее опасных местах и представляет собой трехслойную панель из углепластика
с алюминиевыми сотами. Этого нам было достаточно. Но американцы потребовали на
ФГБ существенно ее усилить. Они выставили очень жесткие требования по
микрометеоритной стойкости.
По американским
требованиям микрометеоритная защита должна выдержать удар летящего со скоростью
7 км/сек алюминиевого шарика диаметром десять миллиметров. Они привезли образец
разработанной и испытанной у них микрометеоритной защиты из их материалов. Вначале
они не раскрывали состав этих материалов. Но после консультаций у себя они
раскрыли состав и предложили его поставить снаружи на наши микрометеоритные
защитные панели. Этот материал представляет собой ткань, изготовленную из
нитей, вытянутых из расплава смеси окислов алюминия, бора и кремния. Этот материал
довольно тяжел и весит как алюминий. Поэтому они нам увеличили массу микрометеоритной защиты на
680 кг. И американцы пошли на потерю 680 кг полезного груза с тем, чтобы
увеличить вероятность защиты ФГБ от ударов микрометеоритов. Мы считаем, что
такие требования существенно завышены, поскольку достоверность определенных
характеристик микрометеоритного потока еще очень низка, а опыт многолетнего полета
станции «Мир» ярко об этом свидетельствует.
Мы изготовили экспериментальные панели с усиленной
защитой и отправили их в НАСА для испытаний, но уже за их счет, поскольку это
было удовлетворение их завышенных требований. Испытать их у себя мы не могли,
поскольку установки в соответствующем НИИ бездействовали из-за отсутствия
финансирования.
Одновременно наши специалисты, с привлечением
соответствующих НИИ, подобрали гамму своих отечественных материалов, разработали
свою усиленную конструкцию панелей и испытывать будут уже у нас дома.
Когда мы выпустили чертежи на
усиленную защиту, директор завода Калинин А. А. поднял вопрос о том, что микрометеоритная защита значительно усложнена
по сравнению с ранее применявшейся на «Салютах» и «Мир». Завод не успеет ее изготовить в заданные сроки и потребовал
ее упрощения. К тому времени, изучая литературу по этому вопросу, я натолкнулся
на японскую статью, где подробно излагается методика проектирования и тип
конструкции микрометеоритной защиты, разработанной ими для японского модуля в
этой же станции МКС. Она разрабатывалась по одним и тем же американским
требованиям и по конструкции была аналогичной нашей и это решило дело. Наша
конструкция осталась без изменений, но хлопот заводу добавила изрядно. Это, по
сути, нужно изготавливать еще один дополнительный корпус, но разрезанный на бесчисленное
количество панелей, которые нужно подгонять при их установке к большому числу агрегатов
и узлов, находящихся на наружной поверхности корабля. Дело очень сложное и
трудоемкое.
Одновременно этот случай еще раз подтвердил, что
решения научно-технических проблем даже самых сложных различными специалистами,
работающими независимо, будут весьма близкими между собой, ибо нет ни советской
ни капиталистической физики. Решение проблемы определяется ее внутренним содержанием
и физико-химическими и механическими процессами, сопровождающими весь ход
развития этой проблемы.
После испытаний наших образцов защитных панелей в США
мы еще несколько усилили и видоизменили конструкцию, но уже со своими
материалами. В результате вес микрометеоритной защиты почти удвоился. Эту
большую работу по взаимодействию с
американской стороной, разработке и выпуску чертежей и сложнейшие подгоночные
работы в производстве и на полигоне осуществили Нагавкин В. Ф., Гадасин И. М.,
Никишин Е. Ф., Оленин И. Г., Агуреев С. А. и другие.
СРОКИ СЛУЖБЫ
Американцы поставили требование обеспечения ФГБ
пятнадцати лет активного существования на орбите, исходя из того, что они пять
лет будут монтировать станцию на орбите и затем уже в окончательно собранном
виде она еще десять лет будет летать. В предварительных переговорах они
выставили фиксированную цену контракта на разработку ФГБ в размере что-то около
260 миллионов долларов, которые им выделил Конгресс. Такая сумма для нас весьма
существенна в нынешнее время, тем более, что она будет идти непосредственно
нашей фирме, поскольку контракт заключаем мы сами непосредственно, а не так как
было с Индией. С ней контракт заключил Главкосмос и нам, очевидно, достались крохи
от его стоимости.
Шаевич заявил, что за эту сумму мы обеспечим только 13
лет срока службы, а не 15 лет и попросил меня обосновать это заявление, определив
сумму, на которую необходимо увеличить стоимость контракта. В основу
определения величины этой стоимости я положил необходимость увеличения
длительности ускоренных испытаний материалов, агрегатов и элементов изделия для
установления сроков службы, увеличение продолжительности натурных испытаний для
подтверждения установленных сроков службы, а также необходимость дополнительных
затрат на увеличение продолжительности содержания испытательной базы. Получилось
в сумме что-то около 10% стоимости контракта. Все это я доложил и обосновал
руководителю проекта от НАСА Дугласу. Он согласился с моими доводами и попросил
все это изложить официально и направить им. Он войдет с ходатайством в Конгресс
о выделении дополнительной суммы.
Когда в США в начале 1995 года обсуждался и
подписывался окончательно контракт он стал называться не «разработка ФГБ», а
«закупка ФГБ», что сразу же перевело контракт в другой разряд. Но даже при
таком контракте он для нас представлял немалую ценность. В таком явно выгодном
для них деле, американцы повели себя с нами весьма учтиво при расточении улыбок
любезности и рассыпании бесчисленных комплиментов в наш адрес.
Вместе с тем, при обсуждении в начальной стадии
контракта американские специалисты высказывали большую озабоченность о возможности
установления 15-летнего срока
службы и они недоумевали как технически это можно обеспечить и осуществить. У
меня уже был опыт таких работ применительно к обеспечению длительных сроков
службы боевых ракет. Им мы, конечно, об этом не говорили.
К сожалению, мой отдел, занимавшийся этой тематикой, в
конце 80-х годов был расформирован по меркантильным соображениям одного из
руководителей, несмотря на то, что мы тогда уже разработали обширную программу
и предложили осуществить ее с целью обеспечения длительных сроков службы и
обитаемости орбитальных станций. По тем же соображениям эта программа тогда не
была принята руководством. И вот через пятнадцать лет гром грянул, а отдела
нет. Новое руководство фирмы поручило мне его воссоздать и возглавить вновь эти
работы на предприятии. Во многом эта задача облегчалась тем, что к тому времени
у нас «Мир» налетал почти девять лет и накопилось немало практических данных,
но, к сожалению, при нулевых теоретических обобщениях.
Из старых работников прежнего отдела удалось вернуть
только Воинова А. С. и Соловьеву Р. И. Остальные или ушли в мир иной или уже
кардинально поменяли профессию, как Полторанин Г. Я., и на склоне лет не
захотели вновь перестраиваться.
Как и прежде для боевой тематики, я разработал
«Комплексный план» работ на предприятии по данной тематике, в который вошло 87
наименований экспериментально-исследовательских работ, а также разработал
Положение о порядке их проведения, где были определены подразделения-исполнители
по каждой теме. Эти документы отправили в «Локхид» и предложили им положить эти
работы в основу обеспечения долговечности и безопасности ФГБ, а не только одно
трещинообразование. Вначале их реакция была сдержанной и четкого ответа от них
не последовало до защиты технического проекта ФГБ, где они и были приняты. Защиту
мы провели у нас в Москве в конце апреля 1995 года.
ЗАЩИТА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Разработанный нами технический проект был направлен на
проработку в США на английском и русском языках. Поскольку НАСА является
Генеральным заказчиком орбитальной станции МКС от имени правительства США, то и
защиту этого проекта организовывало и принимало НАСА. Это был для нас хороший
экзамен и нам предстояло должным образом поддержать авторитет отечественной
космонавтики.
Специалисты НАСА, проработав наш проект в США,
сформировали 160 вопросов, которые распределила по 15-ти организованным ими еще
в США группам. В каждую группу от них входили представители НАСА, «Локхида» и
«Боинга». Когда они приехали к нам, то в каждую группу были включены
представители от нашей фирмы. Мои отделы входили в три группы: по конструкции и
интерьеру корпуса, по материалам и срокам службы ФГБ и мне приходилось
участвовать в работе этих трех групп.
По каждому из сформулированных вопросов нужно было
заполнить по результатам обсуждений специальный бланк, форму которого они тоже
уже разработали. Они приехали в конце апреля и мы очень плотно работали десять
дней без выходных и закончили работу к маю 1995 года. Технический проект мы
успешно защитили, не ударили лицом в грязь и достойно представили наше
Отечество.
К концу работы кроме 160 вопросов появилось еще 60
дополнительно. Из всех 220 вопросов полностью закрыть удалось только 80 вопросов,
а остальные остались на дополнительную проработку и последующее дополнительное
рассмотрение. По моей тематике все вопросы мы закрыли полностью при защите.
Всего приехало из США 70 человек специалистов, как
объявили на первом пленарном заседании. Но мне, кажется, что их было больше. В
процессе работы групп к нам однажды подошла молодая негритянка, кстати,
единственная цветная в их делегации, и представилась как руководитель
инспекторской группы руководства НАСА. Ей поручалось контролировать работу
американских специалистов и их руководителей с тем, чтобы они твердо вели
переговоры с нами и требования их технического задания были неукоснительно
выполнены и при этом не были бы ущемлены интересы американской стороны. В
общем, настоящее техническое ФБР. У нас ничего подобного нет. Как уж они там
контролировали своих работников, мы не знаем, но нас они не беспокоили.
Защита началась с пленарного заседания. Оно
продолжалось один день. На нем был доложен технический проект ФГБ и сделано три
общих доклада: по надежности, электромагнитной совместимости оборудования и по
срокам службы. Последний доклад сделать поручено было мне. После того как я
сделал доклад и сел на свое место, мне мои коллеги сказали, что американцы мой
доклад записали на видеопленку и даже шикали на наших, чтобы не мешали
записывать. Два других доклада я не видел, чтобы они записывали. Они и мы
сидели в зале вперемешку, а фотографировать им разрешили кое-что из того, что
они видели на территории предприятия. В макетном зале изделия, не касающиеся их
тематики, были зачехлены. По натурным макетам «Салюта», «Мира», модулей к ней,
и особенно макету ФГБ они налазились и нафотографировались вдоволь.
Беседы в рабочих группах шли подчас напряженно. В тех
моментах, когда расхождения во мнениях были весьма велики, а таких моментов
было немало, наши специалисты нервничали и вели обсуждения между собой на
довольно повышенных тонах. Американцы в эти моменты учтиво выходили из-за стола
и, стоя невдалеке, переговаривались между собой, а мы продолжали
переругиваться. Они ни разу не позволили себе подобных сцен и я ни разу не
видел, чтобы кто-либо из них выходил из себя в наших спорах или в их обсуждениях
между собой. Я это осмыслил только потом и понял, какова разница в культуре у
нас и у них. Они всегда работают с улыбкой на устах.
После
переговоров много технических вопросов осталось нерешенными по многим
направлениям, как я писал. Свои же вопросы мы все закрыли.
В
последний день работы после подписания итогового протокола о принятии технического
проекта наше руководство дало грандиозный банкет в бывшей фабрике-кухне на
Филях.
На
банкет пригласили весь состав с американской и нашей стороны. В зале было
человек 300. От всевозможных холодных закусок до запеченных целых осетров с
лучшими коньяками, винами и фруктами заморской поставки. Все выглядело как в
лучшие былые времена, когда, например, я обмывал свои диссертации в «Славянском
базаре» в мемориальном зале. В нем певали за дружеским застольем Шаляпин и Собинов,
сиживали Чехов, Гиляй и Горький и много других видных людей того времени. В
этом зале на стенах было много мемориальных досок об этих событиях, да жаль
сгорел этот зал вместе со всем рестораном в реформенное время и не стало теперь
в Москве знаменитого «Славянского базара». Наверное, проворовались или не поделили
и сожгли.
На
банкет я пошел из чистого любопытства, поскольку я еще не был ни на одном
банкете с иностранцами. Иностранцы вели как вполне нормальные люди и горазды
были немало выпить. Все рабочие группы с их и с нашей стороны постарались сесть
вместе и потом после официальных тостов три длинных стола разбились по группам
и начали свои тесные веселья.
Получилось так,
что я сел отдельно от всех групп во главе одного из столов, а затем ко мне
подсел руководитель группы переводчиков, а их было что-то около 20 человек, и
мы продолжили застольничать вдвоем. У меня с ним сложились еще с августовских
встреч хорошие отношения и мы приятно посидели и поговорили о многом. Он наш,
советский человек, и у нас во многом оказались общие взгляды.
Глядя
на веселящийся зал, я поделился с ним мыслями, которые у меня возникли. Ведь
этот банкет, как и наша защита, тоже уникален. В этом зале собрались специалисты
ведущих авиакосмических фирм мира, которые еще недавно вели непримиримую
техническую войну между собой. На банкете объявили, что к специалистам «Боинга»,
«Локхида» и НАСА присоединились специалисты фирм «Дуглас» и «Мартин-Мариетта» и
они находятся в зале. В общем весь авиакосмический цвет США.
Раньше Фили своим бомбардировщиком 3М противостояли
боинговскому стратегическому бомбардировщику Б-52, а затем пытались противостоять
локхидовскому дальнему разведчику У-2, после того как сбили Пауэрса на Урале в
60-м году. Мне пришлось тогда изучать его конструкцию в составе специальной группы
по тем обломкам, которые привезли в Москву. Тогда я восхищался культурой
производства этого самолета так же, как и его конструкцией. На нем уже тогда
применялись клееные сотовые панели. Но нам не дали довести дело по радионеобнаруживаемому
разведчику. Нас перебросили на ракетную тематику. И мы опять столкнулись в
противостоянии с «Боингом», но уже по ракетной тематике. Мы со своей
ракетой УР-100 противостояли
боинговскому «Минитмену» — такому же массовому как и УР-100.
А вот теперь мы собрались за общим столом на дружеской
вечеринке и радуемся по поводу хорошо идущей совместной работы. Теперь мы
сотрудничаем с «Боингом» в создании общего изделия. Ведь это грандиозное
достижение и прекрасное знамение нового времени, если бы оно не представлялось
для нас таким горьким. Непомерно большую цену за это достижение пришлось
заплатить, разрушив великую державу СССР собственными руками и ликвидировав
социалистические завоевания, доведя экономику до краха. Можно смело утверждать,
что добиться окончания холодной войны можно было бы и без таких сокрушительных
жертв с нашей стороны, будь наши высшие руководители с большим умом.
Переводчик предложил, чтобы я рассказал все это всему
залу, на что я сказал, что после столько выпитого уже никто не станет слушать.
Он возразил тем, что ему это было интересно слушать и он уверен, что интересно
будет и другим. Но я не хотел «высовываться», хотя, очевидно, и был самым
старшим по возрасту из всех сидевших в зале.
ОПЯТЬ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ
После защиты технического проекта фирма «Боинг» расторгла
контракт с фирмой «Локхид» на «разработку ФГБ» и контракт на «закупку ФГБ»
заключила с нами уже сама. Одним ходом они вывели из игры «Локхид». В общем
закон джунглей сработал и «Локхида» вышибли из седла после того, как он завязал
все это дело. Дальше он стал не нужен. Обычное дело при волчьей морали рынка.
«Локхид» начал передавать дела «Боингу» и тут естественно началась кутерьма
и все началось вновь, в том числе и по трещинам. У «Боинга» этой тематикой
занимается некто Георгий Майский — выходец из нашей уже реформенной иммиграции.
Там от нас таких уже много. Даже некто Левин, работал у нас в КБ «Салют» в
отделе по эксплуатации и постановке на боевое дежурство наших стратегических
ракет, иммигрировал в США и работает теперь в фирме «Мартин-Мариетта».
Так, вот этот Майский узнал от других в США мою
фамилию и вызвал меня на телефонную пресс-конференцию. Это оказалась весьма отличная
вещь. «Боинг» имеет у себя спутниковую связь и может вести служебные разговоры
по телефону с любой точкой земного шара. Вот у нас с ним и состоялся
селекторный разговор.
Майский начал все сначала по этим злосчастным
трещинам, предложив нам работать по этому вопросу по их плану. Оказалось, что
они от «Локхида» не получили мой план по срокам службы, которым я заменил план
по трещиностойкости. Мой реферат он получил, но еще не читал, в чем я
сомневался. Не читая это, он не мог выйти на разговор со мной. Я попросил
ознакомиться с нашими материалами и направить нам их план. Буквально через пару
часов этот план по факсу был передан с сопроводительной запиской Майского,
написанной от руки. Присланный план касался в основном организационных вопросов
конструирования, изготовления и испытания корпуса. По нему мы должны были бы
представить массу специфических данных, которые никак не входили в условие
контракта и раскрывали во многом наши возможности и параметры.
Этот мой разговор с Майским, при котором присутствовал Шаевич, поверг
его в смятение, особенно после получения плана от них. Шаевич попросил меня
составить вежливый ответ, хотя мы оба кипели, и отказаться от него и
подтвердить уже достигнутую договоренность по этому вопросу о «Локхидом» и
НАСА. Мой ответ я привожу полностью, поскольку он был тут же написан единым
махом буквально за пять минут и произвел благоприятное впечатление на Шаевича.
В ФИРМУ «БОИНГ»
КОПИЯ ГЕОРГИЮ МАЙСКОМУ
В ответ на факс от 20 июля 1995 г. на имя Е. С. Кулага
по вопросу трещинообразования.
Благодарим за присланную программу по контролю трещинообразования,
позволившую нам оценить подход американской стороны в обеспечении длительной
прочности корпуса.
Наш подход в обеспечении долговечности ФГБ учитывает
не только длительную прочность корпуса, но и другие физико-химические и механические
процессы, протекающие во времени в материалах, агрегатах и системах, такие как
старение, коррозия, деструкция, газовыделение и другие. В силу этого для ФГБ
«План обеспечения трещиностойкости», предложенный американской стороной, был
заменен на «Комплексный план обеспечения сроков службы ФГБ» по согласованию с
фирмой «Локхид» и НАСА и в виде документа Е-08 был отправлен в «Локхид» 3 июля
1995 г.
Вопросы трещинообразования, освещенные в реферате Е.
С. Кулага, являются предметом научной тематики НИИ и в инженерной практике на
промышленных предприятиях у нас не используются. Обеспечение прочности у нас
проводится путем надлежащего конструирования, а также установления надлежащих
запасов прочности с последующими ресурсными и усталостными испытаниями.
Вместе с тем, будем благодарны за какие-либо сообщения
с результатами использования теории трещинообразования в американской инженерной
практике в космической технике.
С. К. ШАЕВИЧ
После этого Майский оставил нас в покое. Но с
трещинообразованием все же дело осложнилось тем, что наши прочнисты провели несколькими
днями раньше, независимо от нас конструкторов, свои переговоры по трещинам с
представителями «Боинга» в Москве на защите в «Энергии» их проекта российского
сегмента станции МКС. Там они согласовали этот план, по которому оказывается
работала ранее «Энергия» при установке своего стыковочного узла на «Шаттле»
перед его стыковкой со станцией «Мир». Вот теперь и получается, что мы
отвергаем американский подход в обеспечении длительной прочности на основе
только трещиностойкости, а «Энергия» приняла его и завлекает нас на этот путь.
Я заявил нашим прочнистам, поскольку этот метод весьма не объективен и не
позволяет учесть многообразие конструктивных особенностей и сложности
многоосевого напряженного состояния, а также величину, форму и месторасположение
гипотетической трещины, то этот метод не может служить квалификационным методом
определения качества корпуса ФГБ и он не принят нами при заключении контракта.
В ответ они дали мне американские требования от 1981
года по обеспечению прочности «Шаттла» и я с удивлением узнал, что утверждение
уважаемого нашего Петроковского о том, что американцы не проводят статические
испытания, мягко говоря, не совсем верно. Они проводят и статические и
усталостные испытания так же, как и мы. Но в дополнение к ним проводят
серьезную работу по обеспечению трещиностойкости. Это касается выбора
конструктивных форм, снижающих концентрацию напряжений, выбора наиболее
пластичного материала, использования техпроцессов, уменьшающих
трещинообразование, и применения наиболее чувствительных неразрушающих методов
контроля, позволяющих обнаруживать максимально мелкие трещины. Наряду с этими,
весьма необходимыми мероприятиями, они еще проводят и этот пресловутый расчет
на трещиностойкость.
Все эти мероприятия, направленные на предотвращение
трещин, мы провели несколько десятилетий назад, когда начали заниматься боевыми
ракетами на жидком топливе. Для них вопрос абсолютной надежности обеспечения
герметичности был решающим. Поэтому мы тогда провели их для уровня трещин,
которые мы называли микротечами, на несколько порядков более мелких, чем
интересует американцев с точки зрения длительной усталостной прочности корпуса.
Тогда мы разработали и внедрили массу мероприятий, о чем уже писал ранее, и во
многом этому способствовала работа той комиссии, которую довелось возглавить
мне. Но, главное, в этом деле решило повышенное внимание к этой проблеме всех
руководителей на всех уровнях, начиная с министерства.
В настоящее время по расчетам на трещиностойкость у
нас на предприятии сложилась двойственная ситуация. Официально наше руководство
приняло мою концепцию и наша фирма не взяла на себя обязательство проводить
расчет на трещиностойкость. Но те прочнисты, которые подписали вместе с
«Энергией» план по трещиностойкости продолжают расчетные работы, как бы
факультативно, для набора опыта. Пусть работают в частном порядке. Это полезно
для набора опыта.
Летом 1996 года меня пригласили на научный симпозиум в
институт механики МГУ и попросили сделать сообщение о трещиностойкости. До них
тоже докатилась волна, поднятая трещиностойкостью. На заседании были
представители других НИИ, в том числе из института машиноведения РАН.
Я изложил американский подход, обобщенные результаты
отечественных исследователей по трещиностойкости и сообщил о своем видении этой
проблемы. Некоторые предложили мне сотрудничество, проявив большой интерес к
теме. Директор института член-корреспондент РАН Э. И. Григолюк в своем заключении
высоко оценил работы отечественной науки и поддержал мою точку зрения, признав
ее наиболее практичной и как наиболее целесообразную. В итоге он подарил мне
только что изданную его книгу о математике начала века И. Г. Бубнове и его
научном наследии «Метод Бубнова» с теплым автографом в мой адрес в честь моего
доклада.
Сам Григолюк — это большая величина в области механики
— вел активную дискуссию и переписку еще с самим Тимошенко С. П. Оказывается,
как пишет Григолюк, еще в 1913 году Тимошенко написал свой знаменитый труд «Об
устойчивости упругих систем», который затаптывался учеными невеждами в Киевском
политехническом институте. Отзыв Бубнова на эту работу во многом способствовал
признанию Тимошенко. А сам отзыв оказался забытым и был опубликован только в
1956 году.
О самом Бубнове Григолюк пишет: «Он являлся
основоположником строительной механики корабля, ему принадлежат выдающиеся
результаты по решению нелинейных задач теории пластин и оболочек, он ввел
концепцию пластического шарнира при расчете конструкций, ввел в теорию
пластичности понятие секущего модуля, предложил метод ортогонализации. И. Г.
Бубнову принадлежит 48 проектов кораблей. Он создал научно обоснованные методы
проектирования кораблей».
Какое удивительное сочетание научной деятельности с
широкой практической проектно-конструкторской работой. И как мало мы знаем об
этом деятеле! Студентами мы зачитывались воспоминаниями Крылова, который
считается признанным авторитетом судостроения. А ведь он был учеником Бубнова.
Но свои воспоминания Крылов написал так, что о Бубнове след в памяти читателей
не оставил. А ведь Крылов, учился у Бубнова, а написать ярко о нем не смог или
не стал.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАПУСК ФГБ
К концу изготовления ФГБ этот блок получил
наименование «Заря», а «Мир-2» получил наименование «Звезда». В процессе
изготовления «Зари» нас постигла одна весьма существенная неприятность.
Проводя испытания на герметичность уже готового блока,
оператор допустил ошибку, в результате чего в одном из отсеков образовалось
избыточное давление и под его воздействием было выломано внутреннее днище
корпуса. Это весьма обеспокоило нас и наших американских коллег. Мне пришлось
возглавить комиссию по восстановлению корпуса.
Сложность этого восстановления состояла в том, что
необходимо было избежать дополнительных каких-либо механических или каких-либо
иных испытаний отремонтированного корпуса, подтверждающих качественность
проведенных работ. Этого удалось избежать путем принятия решения о том, чтобы
восстановительные работы проводились только с помощью технологически освоенных
техпроцессов и с использованием конструктивно отработанных деталей.
Восстановление корпуса практически не задержало весь
ход изготовления ФГБ и он был успешно завершен в установленные и согласованные
сроки с американской стороной.
Модуль «Заря» был выведен на орбиту 20 ноября 1998
года с помощью нашего носителя «Протон». Вскоре к нему был пристыкован первый
американский блок «Юнити», доставленный кораблем «Шаттл». Причем, стыковку
этого модуля с «Зарей» производила женщина-астронавт США.
12 июля 2000 года был успешно выведен на орбиту и
пристыкован к модулю «Заря» российский модуль «Звезда». Он именуется теперь как
сервисный модуль (СМ) и предназначен для проживания в нем экипажей МКС и
управления всей станцией. К нему будут пристыковываться российские модули в
будущем, образовывая тем самым российский сегмент МКС. Так началось уже
практическое строительство международной космической станции. Когда пишутся эти
строки, к полету на нее готовится первый российско-американский экипаж для
длительного пребывания на ней.
В знак успешной разработки и запуска нами ФГБ «Заря»,
НАСА и фирма «Боинг» учредили нечто подобное нашим былым похвальным грамотам.
На них наклеили печати из золотой фольги, побывавшей в космосе на «Заре» и
возвращенной на Землю. Эти грамоты были вручены группе сотрудников КБ «Салют»,
в числе которых оказался и я. Фото этой грамоты приводится на цветной вкладке.
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО РАКЕТЕ «СОЮЗ-У»
АВАРИИ РАКЕТЫ
Ракета «Союз-У» — это усовершенствованная в ГСКБ
«Прогресс» Козлова Д. И. в Самаре знаменитая «семерка» Королева, на которой
тогда Козлов был ведущим конструктором, а потом уехал с ней в Самару, где она
производилась. Образовал свое КБ и стал там Генеральным конструктором и поныне.
Эти ракеты летали 156 раз за свою историю и достаточно успешно.
Но вот в 1997 году летом два последующих пуска
«Союза-У» были аварийными, когда запускали два военных спутника. Оба раза
разрушились головные обтекатели на 49 секунде полета. Это говорило о том, что
существует какой-то органический дефект в обтекателях несмотря на то, что
обтекатели такой конструкции до этого летали успешно.
Данное обстоятельство вызвало беспокойство у
руководителей нашей фирмы и я с группой конструкторов был направлен в Самару
для изучения обстоятельств аварий на месте.
В КБ Козлова нас приняли весьма внимательно и
практически рассказали и показали все, что было необходимо для нашего полного
понимания всех обстоятельств, включая собранные остатки аварийных обтекателей.
В результате выявились весьма примечательные
обстоятельства, когда на одном и том же объекте сложилось одновременное
проявление упущений, имевших место в разные годы и в разных сферах при проектировании
и изготовлении этих обтекателей.
Конструкция обтекателей была весьма совершенной,
выполненной в виде трехслойной оболочки из стеклопластика. Изготавливалась зацело
каждая половинка обтекателя путем вакуумного отверждения обшивок
непосредственно на сотах. При диаметре обтекателя порядка 3 м толщина оболочки
у них была 10 мм, в то время как на наших обтекателях она составляла 40 мм при
диаметре 4 м. Мне никак не удавалось преодолеть сопротивление наших прочнистов
и снизить эту величину. Но потом, когда мы испытали наш обтекатель на
акустическое воздействие, то без какой-либо дополнительной звукозащиты наша
оболочка снизила акустическое воздействие внутри обтекателя со 140 до 120 дБ. И
это нам очень помогло при выполнении запусков по коммерческим контрактам,
поскольку разработчики космических аппаратов выставляли жесткие требования по
акустике. К слову сказать, в обтекателях Швейцарии, которая поставляет
обтекатели всем странам, звукоизоляция внутри обтекателя заняла 150 мм объема
на сторону, А нас спасли эти 40 мм.
Вернемся к самарским делам. Первое упущение у них было
сделано в процессе проектирования, когда не было учтено возрастание аэродинамических
нагрузок, происходящее за счет перестройки потока обтекаемого воздуха в виде,
так называемой, бегущей волны, возникающей при сверхзвуковом скачке уплотнения
в носовой части обтекателя. Это
явление было открыто в 70-х
годах и о нем ЦНИИМАШ разослал в свое время в конструкторские
организации соответствующие информационные письма.
Второе упущение было сделано в технологии изготовления
стеклопластиковых оболочек. Между обшивками и сотами отсутствовала клеевая
пленка и обшивки приклеивались к сотам только за счет вытекающего связующего из
обшивок. Это соединение является крайне ненадежным, поскольку в месте сочетания
сот с обшивкой не образуется галтелей — небольших наплывов, которые образуются
за счет расплавления и отверждения
клеевой пленки. К тому же, контроль качества приклейки сот к обшивке
производился не ультразвуковым прибором, а вручную путем простукивания.
Третье упущение состояло в процессе изготовления и
расчета на прочность продольных замков разъема половинок обтекателя при его раскрытии.
Для изготовления защелки замков, которые были установлены на аварийных
обтекателях, штамп был изготовлен по минимальным допускам. Штампы менялись по
мере их износа и раньше все они изготавливались по максимальным допускам и
имели небольшой запас прочности, если их рассчитывать на увеличенные
аэродинамические нагрузки. При минимальных допусках в штампе защелка не
выдерживала уже этих нагрузок, а расчет прочности на минимальных допусках
штампа ранее не производился.
На первой аварийной ракете, как было видно на
любительской киносъемке, а штатная киносъемка во время пуска не
предусматривалась, разрушение обтекателя началось на 26 секунде в его носовой
части, которая имеет усложненную форму за счет местного обтекателя. Затем, на
49 секунде произошло раскрытие его продольного разъема и разрушение всего
обтекателя, в результате чего разрушилась вся ракета.
Государственная комиссия, назначенная для
расследования причин аварии и возглавлявшаяся Главкомом Космических сил
генерал-полковником Ивановым В. Л. установила, что на данной ракете был
применен обтекатель предварительно длительно хранившийся, а все обследованные
другие обтекатели и также длительно хранившиеся, имели такие же непроклеи в
носовой части. Комиссия на этом акцентировала свое внимание, не обратив
внимание на 49 секунду, и Иванов дал команду на второй пуск, но уже со свежим,
вновь изготовленным обтекателем, на котором заведомо уже не было непроклеев в
носовой части. Это было сделано без утверждения отчета и заключения аварийной
комиссии.
На второй ракете обтекатель разрушился на 49 секунде,
но уже без начального разрушения на 26 секунде.
Государственная комиссия по второй аварии, также
возглавлявшаяся Ивановым, обратив внимание на 49 секунду, установила, что сверхзвуковой
скачок уплотнения наступает именно на 49 секунде, и замки, изготовленные в
штампах с максимальными допусками еще выдерживали эти возросшие нагрузки.
Последующие замки с защелками, изготовленными в штампах с минимальными
допусками уже не выдерживали этих нагрузок. При расчете замков без учета скачка
уплотнения все они выдерживали нагрузки.
Все это мне стало понятным, я доложил руководству,
предварительно оценив, что у нас ничего подобного в конструкции обтекателей нет
и перестройка потока при скачке уплотнения у нас учитывается. А события вокруг
этих двух аварий продолжали развиваться.
ОТКРЫТИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
К концу 1997 года коллективными усилиями техническая
сторона причин аварий была выяснена. На основании этого в КБ Козлова начали
разрабатываться мероприятия по их устранению. К этому времени был уволен в
отставку Главком Иванов В. Л. Это произошло сразу же после его 60-летнего
юбилея. Для всех это было очень странным и выглядело весьма недобропорядочно,
поскольку Иванов был известным человеком. Генеральный директор нашего Центра
Киселев А. И. принял его к себе на работу в качестве своего заместителя по
созданию нового носителя «Рокот». Он создавался на базе снимаемой с
эксплуатации нашей боевой ракеты РС-18 или СС-18.
В начале 1998 года стали ходить слухи о том, что по
факту этих двух аварий спустя несколько месяцев возбуждено уголовное дело.
Вскоре этот слух нашел свое подтверждение.
Уголовное дело действительно было открыто и для его
завершения нужна была судебно-техническая экспертиза. Прокуратура долго искала
организации, которые взялись бы ее провести. Согласились на это только наш
Генеральный конструктор Недайвода А. К. и НИИТП им. Келдыша. От нас выделили
нашего прочниста и меня. От НИИТП оказались люди слабо знакомые с конструкцией
и с композитами. Наш прочнист укатил за границу и всю работу пришлось вести мне
по этой судебной экспертизе.
В постановлении прокуратуры о назначении экспертизы
перед ней были поставлены следующие вопросы, как официальные и подлежащие
обязательному ответу:
-
каковы причины
первой и второй аварии,
-
могла ли комиссия
по первой аварии предотвратить вторую аварию,
-
какие инструктивные
и нормативные документы были нарушены,
-
кто персонально
виновен в авариях.
Ознакомление с
уголовным делом выявило два обстоятельства. Первое то, что московская
прокуратура долго добивалась от самарской прокуратуры открытия последней этого
уголовного дела, пока все-таки не достигла своего. Из этого факта вытекало, что
в этом деле кто-то в Москве видел свой какой-то интерес, поскольку даже раньше
в советское время, когда аварии в нашей технике были и пострашнее, никогда не открывались
уголовные дела. А тут на тебе! В век полной безответственности и всеобщего
воровства, проявлено такое рвение и такая принципиальность! Не трудно было
видеть, что «друзья» Иванова, уволив его в отставку, решили его добить. Так,
что это дело было явно персонифицировано, несмотря на то, что оно был открыто
«по факту», а не против кого-либо лично. Личностей должна была определить
экспертиза.
Второе обстоятельство
состояло в том, что следователи опросили и сняли показания в письменном виде
практически со всех с кого следовало. Но это было сделано очень
непрофессионально с точки зрения техники и безукоризненно с юридической точки
зрения. Стало очевидно, что нам предстоит ехать в Самару и все начинать сначала.
Мне ведь была уже ясна вся техническая подноготная этого вопроса.
После того как
случились эти аварии, по указанию Киселева А. И. меня срочно направили в Самару вместе с ведущим конструктором
по обтекателям Федотовым В. В. Нас там приняли очень хорошо, все рассказали,
что нужно показали и мы полностью вошли в курс дела. По результатам этой
поездки я написал обстоятельный отчет, поскольку дело было весьма
примечательным. Поэтому, в Москве до выезда в Самару, я составил подробный план
работы экспертизы и согласовал с самарским прокурором Мироновым В. Ф., который
вел это дело.
Работа экспертизы по
этому плану включала просмотр киноматериалов, опрос сотрудников и снятие
письменных показаний у некоторых из них, а так же осмотр остатков обтекателей.
Причем, я письменно сформулировал, что у кого спрашивать, а также что и с какой
целью смотреть.
Перед отъездом я
попросил наш информационный отдел собрать официальную статистику о всех выпускаемых
обтекателях ракет за рубежом. До этого я знал, что этот самарский обтекатель
подобной трехслойной конструкции из композиционных материалов был разработан в
1974 году и поэтому являлся мировым пионером в этой области. А в новом деле
всегда бывают свои промахи и неудачи. На этом я хотел строить главное свое
доказательство о том, что это были технические недоработки, сделанные разными
людьми в разное время и в разных областях деятельности. Целенаправленного и
организованного злого умысла кого-либо в этом деле нет. В итоге эта идея возобладала
и была оформлена в заключении нашей судебно-технической экспертизы без указания
каких-либо фамилий, несмотря на то, что в каждом конкретном случае они нам стали
известны.
В процессе нашей
экспертизы мы выяснили еще ряд технических сторон дела в дополнение к тому, что
сделали государственные комиссии. Одно из них состоит в том, что мы выяснили
то, что в КБ Козлова учитывали влияние этого злополучного скачка при
проектировании всех других последующих обтекателей. Они продолжали
проектировать обтекатели аналогичной трехслойной конструкции, но уже значительно
позже этого первого обтекателя. А об этом, первом обтекателе, они забыли и не
проверяли его расчетные параметры после получения инструктивного письма из
ЦНИИМАШ об скачке уплотнения. А обтекатель в течение десятков лет продолжал
успешно летать и с ним ничего не происходило.
Данная печальная
история еще раз свидетельствует, что изделия, находящиеся длительное время на
эксплуатации, постоянно требуют к себе внимания, как бы успешно они не
эксплуатировались.
Эти обтекатели
успешно эксплуатировались не только потому, что замки ранее изготавливались со
штампами защелок с максимальными допусками и замки выдерживали повышенные
нагрузки, имевшие место в реальной эксплуатации. Тогда, в советское время,
обтекатели не залеживались и пускались каждый раз еще «тепленькими». А рыночное
время наложило свой отпечаток и пуски стали очень редкими. Вот поэтому обтекатели
и лежали подолгу и в них начали образовываться отслоения обшивок от сот в
местах, где были наибольшие остаточные технологические напряжения. Вместе с
тем, неиспользованные фрагменты наших трехслойных обтекателей, изготовленные с
применением клеевой пленки, валяются у нас на открытой площадке вот уже почти
десять лет под солнцем, ветром и дождем и с ними абсолютно ничего не происходит.
Вот, что дает клеевая пленка в трехслойной конструкции.
Мы выявили у них еще
одно важное обстоятельство. В процессе создания этого обтекателя, оказывается,
они проводили его испытание на длительное хранение по ускоренной методике,
разработанной ЦНИИМВ, которая действует и поныне. Результаты этих испытаний
были положительные. А вот жизнь не подтвердила эту ускоренную методику.
Поэтому, мы в своем частном определении указали на это данному институту и
порекомендовали ему доработать свою методику.
При подписании нашего
заключения у Генерального конструктора Козлова Д. И. было как-то жалко смотреть
на этого дважды Героя Социалистического труда, академика АН СССР, лауреата всех
степеней и весьма заслуженного человека. До прочтения заключения он как-то
обескураженно и обеспокоенно нас спросил: «Неужели нас будут судить?». На это я
ему ответил, что мы провели объективное и всестороннее изучение всех вопросов,
касающихся аварий и из заключения видно, что дело должно быть закрыто. Прочтя и
подписав наше заключение, он ответил: «Я вижу это и весьма благодарен вам».
Вскоре дело
действительно было закрыто, а с прокурором Мироновым у меня после этого
сложились хорошие товарищеские отношения и он, приезжая в Москву, пару раз
останавливался у меня, а не в гостинице. После этого дела его назначили военным
прокурором всего самарского военного куста.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬСТВО
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
В Самаре мы пробыли
более месяца. Нас, естественно, хорошо принимали. Правда, из-за нас пострадала директорша заводской гостиницы.
Она поселила нас в скверный номер и потребовала залог за стаканы и полотенца, несмотря
на имевшееся у нее письменное уведомление руководства о соответствующем размещении
нас. На следующий день ее не стало в гостинице, а нас перевели в люкс. Потом
нам объяснили, что случай с нами переполнил чашу терпения руководства,
поскольку она практически «приватизировала» заводскую гостиницу и творила все,
что угодно. Вместе с тем, этим еще раз было показано, что с «судебными
экспертами» шутить не стоит. За время нашей работы руководство предприятия
устроило нам культурную программу из двух мероприятий.
Мне было известно,
что в Самаре, бывшем Куйбышеве, в начале войны был построен бункер для Сталина
и членов Политбюро. Сейчас там музей. Но туда пускают по специальным
разрешениям и нам устроили его посещение.
Второе мероприятие
было в связи с проходившей на предприятии конференцией профсоюзов предприятий
оборонных отраслей, посвященной обмену опытом профсоюзной работы этих
предприятий в нынешней тяжелой обстановке в рыночных условиях. По завершении конференции
ее руководство устроило «пикник» по Волге и нас пригласили принять в нем
участие.
Пикник для заседавших
членов профсоюзов проходил в виде прогулки на теплоходе по Волге с последующим
«возлиянием» на берегу. Фирма Козлова имеет свой собственный прогулочный
теплоходик со своим оборудованным причалом и небольшим строением на нем с банкетным
залом. Все это расположено отдельно от городских
учреждений на берегу так, чтобы подальше все это было от глаз людских. Но все
это было оборудовано скромно и просто не то, что ныне у нуворишей по евростандарту.
Перед отплытием на борт
загрузили большое количество ящиков с воблой и прекрасным жигулевским пивом.
Так, что в пути по Волге экскурсантам было не до созерцания красот,
открывавшихся в пути. А красота берегов была очаровательная. Погода стояла
солнечная, безветренная и поездка была чудесной. Особенно была красива Самара,
открывавшаяся на высоком берегу. По возвращении на пристань был устроен банкет,
т. е. прощальный ужин с осетрами и икрой на столе и с танцами в зале. Раньше
таких банкетов после конференций не было. А вот сейчас, когда людям не платят
зарплату, профсоюзы, защищающие их интересы, нашли средства и на конференцию и
на банкет.
Из разговоров с некоторыми участниками конференции так и не удалось
толком узнать, что же дала полезного и практического эта конференция. Общее
мнение у них было, что это очередная профсоюзная болтовня в духе советских
времен, больше увеселительное и развлекательное мероприятие.
Что касается бункера,
то его строили московские метростроители, начиная с осени 1941 года и закончили
в конце 1942 — начале 1943 гг., когда он уже не понадобился и в нем никто
никогда не обитал. Все строители были награждены орденами и медалями.
Строили бункер прямо
под обкомом партии так, что вход в него был устроен с подвала первого этажа.
Землю при подземной проходке вывозили по подземному тоннелю в сторону Волги
так, что вокруг обкома не было видно никакого строительства.
Бункер представляет
собой вертикальный ствол из метростроевских тюбингов глубиной 30—40 м, по которому
идут лестница и лифт. Вдоль него по глубине идут несколько этажей
отростки-комнаты, оборудованные под размещение в них охраны, пункта связи, технического и
обслуживающего персонала. Внизу, в основании ствола размещен центральный холл,
а из него вход в рабочий кабинет Сталина и зал заседаний.
Кабинет Сталина
небольшой, около 15—20 м2 с имитационными встроенными окнами и
дверями. Оборудование кабинета по-спартански просто — стол, диван и несколько
стульев. На столе рабочая лампа с абажуром — и все, больше ничего в комнате
нет.
Зал заседаний
выглядит богаче из-за того, что в центре зала стоит большой длинный стол со
стульями по бокам персон на 20 с каждой стороны. Вдоль одной стены стоят
несколько столиков для стенографистов и секретарей. Во главе стола для заседаний
стол председательствующего. Когда входишь в этот зал, возникает какое-то
чувство величия и гордости, что вот такое грандиозное сооружение и не понадобилось,
оставшись прекрасным памятником о том грозном и великом времени.
В процессе моих
поездок в Самару хотелось отметить еще одно обстоятельство, оставшееся в
памяти. Это вид на Волгу. Я проехал дважды туда и обратно вдоль Волги от
Сызранского моста – это порядка 15 км в один конец, а всего это почти 60 км. За
это время я не увидел ни одного не то чтобы суденышка, а даже плохонького катерочка.
Великая река была вымершей. Вид мертвой великой реки был ужасен и вызывал ощущение
какой-то большой беды, нависшей и навалившейся на всех нас. И название этой
беды известно – это смена социального строя в стране.
АВАРИЯ
НА СТАНЦИИ «МИР»
РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ
МОДУЛЯ «СПЕКТР»
На станции «Мир» 25.06.97 г. отстыковали грузовой корабль «Прогресс» и,
перед тем как его утопить, с ним начали проводить некоторые эксперименты по
динамике его полета. С какого-то момента этот корабль перестал подчиняться
командам автоматического управления и начал беспорядочное и неконтролируемое
вращение вблизи станции. Вот тут и все началось.
Грузовик,
развернувшись, всей своей массой ударил по солнечной батарее и сломал на ней
лонжерон. Батарея стала болтаться как сухой лист, повиснув на кабелях,
соединяющих ее со станцией. Потом выяснилось, что небольшая часть лонжерона
осталась недоломанной и это еще как-то удерживало батарею.
Отлетев от солнечной
батареи, грузовик стукнул по панели терморегулирования станции и изогнул ее, а
вторым концом ударил по конической части корпуса станции. После этого грузовик
отлетел от станции, удалился от нее и еще долго сопровождал станцию, пока не
сошел с орбиты.
После второго удара,
который пришелся по корпусу модуля «Спектр», в нем быстро начало падать давление,
сопровождавшееся свистом выходящего воздуха из станции в образовавшуюся дыру в
оболочке корпуса модуля. Космонавты быстренько закрыли входной люк в модуль и в
нем давление упало до нуля. «Спектр» полностью разгерметизировался.
На станции возникла чрезвычайная
ситуация, не имевшая аналогов ранее. Не ясна была на первое время ситуация с
безопасностью, возникли проблемы с электроснабжением, а также
работоспособностью оборудования в модуле, которое теперь оказалось в условиях
вакуума.
На следующий день в
РКК «Энергия» собралось все руководство РКА во главе с Коптевым Ю. Н. На этом
собрании была учреждена центральная комиссия из высших руководителей и девять
рабочих комиссий из специалистов для изучения всего комплекса вопросов,
возникших в результате произошедшей аварии, и принятия необходимых мер. Рабочие
комиссии должны были решать каждая свою задачу.
Первая подкомиссия
должна была определить причину аварии, вторая определить место разгерметизации,
третья должна была разработать методику и средства ремонта модуля с целью
устранения негерметичности, четвертая должна была сделать то же для ремонта
солнечной батареи, пятая — определить стоимость предстоящих работ и т. д.
Председателями всех рабочих комиссий были назначены из числа специалистов
«Энергии» и только председателем подкомиссии по ремонту корпуса назначили меня
одного из КБ «Салют».
В первые дни после
аварии, под воздействием шокового состояния в котором все пребывали, ставилась
задача максимально быстрого ремонта корпуса и восстановления герметичности
модуля. Все вертелось вокруг этого. Наша комиссия быстро разработала метод
ремонта на основе приклеивания накладки и провела отработку ее установки
космонавтом в скафандре в вакуум-камере. Эта работа велась под руководством и силами
специалистов «Энергии» Борисова В. А., Домарацкого А. Н., Лютака Д. И. и
других. Работа осложнялась тем, что мы не знали, где именно и в каком месте
находится негерметичность. Поэтому отработку необходимо было вести применительно
к различным ее местоположениям. Расчетом было установлено, что эквивалентное отверстие
составляет порядка 3—4 см2.
Комиссия по поиску
места течи лихорадочно искала пути определения ее местоположения как при поиске
изнутри модуля, так и снаружи при выходе космонавтов, но все было
безрезультатно.
По мере того, как
проходил первый шок и все более становилось ясным в понимании всей сложности
решения задачи поиска места негерметичности и его ремонта, работы начали
проходить менее судорожно, а потом и вообще затихли, поскольку оборудование в
модуле стало приходить в негодность при длительном пребывании в вакууме. Поняв
это, космонавты вынесли все наиболее ценное оборудование из модуля, в основном
американское, которое еще сохранило свою работоспособность. Много вытащить
оборудования не удалось из-за того, что в существующих скафандрах космонавты не
могут долго работать в разгерметизированном корпусе, поскольку скафандры
перегреваются. Это объясняется тем, что процессы теплообмена существенно
разнятся в открытом космосе и в закрытом вакуумированном объеме. Для нахождения
космонавтов длительное время в разгерметизированном корпусе нужен совсем другой
скафандр, разработать который рекомендовала наша комиссия для проведения ремонтых
работ в разгерметизированном модуле.
По завершении этих
работ мы написали отчет по отработанности метода ремонта, отослали в очередном
грузовике на станцию «Мир» все, что нужно для ремонта и на этом все работы по
ремонту корпуса на орбите закончились. Так и лежат наши приспособления и
материалы для ремонта на борту без надобности, потеряв уже срок сохранения их
годности.
Ремонт был проведен
только по укреплению солнечной батареи с тем, чтобы она совсем не отломалась и
не причинила новых бед при стыковке со станцией «Союзов» и «Прогрессов».
Много сил и средств
было затрачено в КБ «Салют» по разработке метода герметизации узла крепления
солнечной батареи, если вдруг обнаружится, что в нем окажется негерметичность.
Но и это все не понадобилось, поскольку так мы и не знаем до сих пор, где же
все-таки негерметичность.
РАЗРАБОТКА
МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПОИСКА НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ
Наряду с разработкой
методов ремонта в «Энергии», мы в КБ «Салют» начали разработку метода и средств
поиска места негерметичности на основе визуального наблюдения шевеления
специальных ворсинок под воздействием выходящего воздуха через негерметичность.
Мы у себя отработали в вакуум-камере методику на макетах этих устройств, после
чего в «Энергии» были изготовлены штатные устройства и отправлены на станцию,
но и они лежат там без дела. На этот метод и устройство мы получили авторское
свидетельство.
К поиску мест
негерметичности подключились и специалисты США. По их предложению при очередном
прилете «Шаттла» к станции «Мир» в июле 1998 года модуль «Спектр» был заполнен
газовой средой из смеси азота с ацетоном. Они полагали, что при отлете «Шаттла»
от станции «Мир» они смогут зафиксировать свечение этой смеси, выходящей через
негерметичность под воздействием ультрафиолетового излучения. Но этого не
произошло в силу того, очевидно, что корпус закрыт экранно-вакуумной
теплоизоляцией и это привело к растеканию газовой смеси под этой изоляцией.
Затем она медленно выходила через достаточно плотные ее стыки и ее концентрации,
очевидно, оказалось недостаточно для свечения.
При очередном выходе
экипаж вскрыл эту теплоизоляцию в зоне передних стоек крепления панелей
терморегулирования, где был удар по ней, и обнажил эти узлы. Экипаж обнаружил,
что стойки сломались у основания, а узлы
их крепления к корпусу разрушились. Но негерметичность оболочки корпуса экипаж
визуально не смог зафиксировать.
Произошедшая авария с
модулем «Спектр» и последовавшие за ней события поставили «во весь голос»
вопрос о необходимости разработки автоматизированной системы контроля
герметичности обитаемых отсеков на орбите и определения места разгерметизации
корпуса. По моей инициативе и предложению в ЦНИИМАШ была открыта НИР по
изучению различных физико-химических процессов, которые могли бы быть положены
в основу разработки такой системы. На основе некоторых из них начинается
разработка макетов нескольких таких систем. Данная задача является весьма
сложной, поскольку это связано с необходимостью проведения калибровочных
испытаний на земле и натурных испытаний в полете. Поэтому станция «Мир» с
разгерметизированным модулем была бы прекрасным полигоном для отработки таких систем.
Важное значение этой
проблеме придает НАСА, образовав международный координационный совет по данной
проблеме из числа специалистов стран-участников создания МКС. Он уже трижды
заседал в США, России и Германии. Уже разработаны международные технические
требования на такую систему.
ПОСТКОСМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОРПУС
РАКЕТЫ И ТОПЛИВНЫХ БАКОВ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
После завершения
работ по ФГБ, Востриков освободил меня от оперативного руководства отделами и
предоставил режим «свободной деятельности». В это время я отметил свое
70-летие, а само свободное время использовал для проверки реализуемости своей
заветной идеи — сделать всю ракету из углепластика, включая топливные баки в
том числе и для криогенных топлив.
В первую очередь
нужно было найти пути и возможности создания герметичного углепластика. Когда
мы делали еще челомеевскую крылатую стратегическую ракету, мы пытались сделать
воздухозаборник из углепластика методом намотки. Но намоточный углепластик
тогда даже давление не держал и был как решето.
Поэтому на этот раз я
начал эксперименты на образцах изготавливаемых методом автоклавного формования.
Образцы делали с полимерным лейнером из лавсана, заформовывая его в пластик при
его отверждении, а также изготавливались образцы и без лейнера. Чертежи образцов
выполнил молодой Леша Колесников в отделе Оленина И. Г., а образцы изготовил
наш цех неметаллов во главе с Мальковым В. В. Руководил всеми работами в цехе
Деревлев К. П., который к этому времени тоже был на режиме «свободной деятельности»,
поскольку после инфаркта он ушел с должности начальника отдела, а его место
занял безвременно скончавшийся наш кадровый сотрудник Балашов Виктор Николаевич,
бывший многие годы заместителем Деревлева.
Первые же испытания
образцов на герметичность, проведенные под руководством Агаханова Б. Г. и
Пучковой Г. Н., показали, что углепластик толщиной 0,7 мм без лейнера может
обеспечивать такую герметичность баку, что из него за 24 часа вытечет всего 6
литров водорода. С такой негерметичностью легко может справиться система продувки,
которая имеется на водородных изделиях. На образцах с полимерным лейнером была
получена практически полная герметичность при испытании на герметичность
вакуумным методом при выдержке под давлением образцов 2,7 атм. в течение 7
часов. Клееболтовые соединения в углепластике также оказались полностью
герметичными. Вместе с тем, разъемные соединения в углепластике с
использованием традиционной конструкции
с уплотняющими прокладками оказались полностью негерметичными и их использовать
в изделии можно только как технологические с последующей герметизацией снаружи.
Эксперименты на образцах показали, что нужно
переходить на модельный бачок, но у руководства на это не находилось средств.
Работы были направлены на применение изогридных конструкций из углепластика,
которые имеют весьма ограниченное применение, и при наличии люков и силовых
узлов с сосредоточенным приложением сил они существенно проигрывают трехслойным
сотовым конструкциям. Но для тонкостенных баков из углепластика они могут
оказаться эффективными для наружного усиления баков, поскольку их применение
исключит необходимость применения сложной оснастки для проверки герметичности
такого бака.
Вскоре Вострикова, после его 70-летнего юбилея,
освободили и он ушел из организации. На его место заместителем Генерального
конструктора назначили Бахвалова Ю. О., а на мое место начальника отделения
Молочева В. П., а мне предоставили еще большую «свободную деятельность».
Теперь, кажется, эти руководители включили в план работ изготовление модельного
бачка из углепластика и эти дальнейшие работы будут проводиться.
Вместе с тем, в
литературе появились сообщения о том, что в США ведутся такие же работы. Они
изготовили модельный бак из углепластика диаметром 1 м и готовят его испытания.
Опять очередная прогрессивная идея будет реализована вначале на Западе, а потом
мы будем догонять. От бывающих за рубежом наших специалистов поступают
сведения, что в Германии в какой-то фирме не удалось решить эту проблему даже на модельном бачке.
На это можно ответить
то, что не во всем для нас должен быть примером Запад и не во всем мы должны
подражать им. В нашем ОКБ-23 мы еще в 50-е годы сделали герметичной клепанную
конструкцию отдельных отсеков крыла и фюзеляжа самолета М-50 для их
использования в качестве топливных баков для керосина. В КБ им. Сухого в 80-е
годы сделали спортивно-пилотажный самолет из углепластика и заливают один отсек
крыла керосином, в котором в качестве лейнера использована резина толщиной 0,8
мм, вулканизирующаяся одновременно с отверждением углепластика. К сожалению,
резина не работоспособна при криогенных температурах. А лавсановый лейнер у нас
надежно держался на углепластике и обеспечивал герметичность при выдержке его в
жидком азоте. Так, что и русские кое-что умеют делать. И неудачи некоторых
исследователей за рубежом не должны останавливать нас в собственных поисках.
Может нам повезет больше.
ВНОВЬ
САМОЛЕТ 3М
Находясь в режиме
ожидания какого-то решения по модельному бачку из углепластика, мне спустя 45
лет вновь пришлось вернуться к своей ранней должности ведущего конструктора по
самолету 3М.
Дело
в том, что все наши самолеты М4 и 3М уже уничтожены по договору ОСВ-1. Американцы постарались. В нашем
проектном отделе один из ветеранов Короткий Ю. П. задумал найти хоть один оставшийся самолет 3М, перевести его к нам в
Центр и где-нибудь поставить как памятник нашему прошлому. Но дела с этим
вопросом двигались медленно. Как-то он обратился ко мне с вопросом — как
разобрать самолет. И вот так я
узнал об этой идее и загорелся ею.
Связавшись с главным
инженером дальней авиации генералом Казазаевым П. Д., я выяснил, что у них
осталось два самолета 3М. Один стоит на постаменте на Дальнем Востоке, а второй
находится в музее дальней авиации в г. Энгельс. После моих уговоров он
согласился отдать нам этот самолет из г. Энгельс.
В результате моей
чертежной проработки, а другим кому-либо поручить было некому, поскольку я остался
один кто знает весь каркас самолета, выяснилось, что нужно 10 платформ с тем,
чтобы его перевезти по железной дороге. На барже его нельзя было перевезти по
Волге, как мы возили вначале самолеты 3М из Филей в Жуковский по Москва-реке,
поскольку в Энгельсе нет причала. Сейчас это моя главная забота и дай бог,
чтобы мы его перевезли к 50-летнему юбилею КБ «Салют», который собираются широко отмечать. Наш Генеральный
директор очень внимательно отнесся к этому и своим приказом образовал
юбилейную комиссию, в которую включили и меня.
Остается нерешенным
вопрос о месте установки самолета. Я предложил создать перед входом на наше
предприятие, на месте дикорастущих тополей, мемориально-исторический комплекс,
в котором установить самолет 3М, РН «Протон» и павильон со станцией «Мир»,
находящейся в цехе 22. Анатолий Иванович Киселев поддержал эту идею и предложил
еще установить там же «Ангару».
Если удастся перевезти
самолет на Фили и установить его у нас, то на этом будет закончен путь самолета
3М, с которого я начинал свой производственный путь.
Из печати я узнал,
что бывший ведущий конструктор знаменитой королевской ракеты «семерки», а
теперь Генеральный конструктор НПО «Прогресс» Козлов Д. И. устанавливает свою
ракету на постамент в Самаре. Хотелось, чтобы и в Москве на Филях был
установлен на постаменте самолет 3М, поскольку и он в свое время также составил
«эпоху». Но не везде у нас среди руководителей эта идея находит должную поддержку
и к выходу этой книги практически работы по перевозке самолета не развернулись
в должной мере.
На этом завершаются
мои писания и если бы не инициатива нашего патриарха ветеранов Шехояна Александра
Сергеевича, в связи с юбилеем КБ «Салют», то эти заметки так и не увидели бы
свет, пролежав не только те пять лет, в течение которых они пролежали. Их
публикование поддержал Анатолий Иванович Киселев. За это я выражаю ему глубокую
благодарность совместно с благодарностью дорогому Александру Сергеевичу и его
дочери Людмиле, которая в свое время печатала рукопись этой работы.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗ АВТОРСКИХ
ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
ТЕХНИКА
СТАБИЛЬНОСТЬ
СВОЙСТВ УГЛЕПЛАСТИКОВ
В соавторстве с А. Н. Кудрявцевым
«Космонавтика и ракетостроение» № 8, 1996 г.
Обобщаются
результаты исследований свойств листов углепластика, изготовленных путем автоклавного
формования. Обосновывается возможность снижения дополнительного запаса прочности
агрегатов из углепластика за счет диапазона разброса его свойств.
Hydrocarbon Plastic Quality
Stability. A. N. Kudryavtsev, E. S. Kulaga. Results of testing qualities of
hydrocarbon plastic sheets, made by the autoclave formation method are generalized.
An opportunity for reducing the additional strength margin of units, made of
the plastic due to its qualities spread range narrowing is grounded.
В
Государственном космическом научно-производственном центре (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева был разработан и освоен в
производстве обтекатель из стеклопластика [1]. Весовая отдача его конструкции
на 15% выше, чем у обтекателя из алюминиевых сплавов, имеющего традиционную
стрингерно-шпангоутную конструкцию, с некоторым резервом по увеличению этого
показателя. Вместе с тем известно, что за счет применения углепластика весовая
отдача конструкции может еще более возрасти. Однако ее стоимость будет
достаточно высока из-за большей, чем у стеклопластика, стоимости углепластика.
В ГКНПЦ им. М. В. Хруничева создан углепластиковый
обтекатель трехслойной конструкции с алюминиевыми сотами. Этот обтекатель,
представляющий собой конус оживальной формы диаметром у основания 3 м и длиной
3,5 м, не имеет продольного разъема и сбрасывается с изделия целиком.
Листы углепластика для
изготовления данного обтекателя были получены в АООТ «Композит» методом автоклавного формования [2] из ленты
ЛУП –0,2 на связующем УП-345 эпоксимодифицированного типа по схеме их укладки
+60—60+0—0— 60±60 град. Режимы отверждения углепластика приведены в
табл. 1.
Таблица 1
|
Разряжение в мешке, мм рт. ст. |
Т, °С |
Равт, кПа |
Время, ч |
|
200 |
20±10 |
0 |
0,25 |
|
700 |
20±10 |
0 |
0,25 |
|
700 |
70±5 |
0 |
1,0 |
|
700 |
90±5 |
0 |
1,0 |
|
700 |
110±5 |
0 |
1,0 |
|
700 |
110±5 |
500—600 |
1,0 |
|
700 |
120±5 |
500—600 |
6,0 |
|
700 |
160±5 |
0 |
8,0 |
|
500—700 |
Охлаждение до 50°C при закрытой
крышке автоклава |
0 |
5,0 |
Результаты статистической обработки данных о
физико-механических свойствах изготовленных листов: соответственно, прочности
на разрыв sр (а), модуле
упругости Е(б), плотности g и толщины d(0) представлены в виде гистограмм на рисунке [3] (в
столбиках указано количество образцов в каждой из партий). Определенные по гистограммам
коэффициенты вариаций свойств материала и среднего квадратичного их отклонения S приведены
в табл. 2. Из представленных данных следует, что коэффициент вариации свойств
углепластика лежит в пределах 9—12% в отличие от аналогичного коэффициента,
характеризующего намоточный стеклопластик (10—24%).
Устойчивость
показателей свойств листов из углепластика, получаемых методом автоклавного
формования, подтверждают результаты обобщения экспериментальных данных, полученных
за 5 лет в Киевском институте инженеров гражданской авиации в ходе испытаний
листов углепластика КИУ-3л из ленты ЛУП-01, проводимых по ГОСТ 25601-80 на
основе математической теории планирования многофакторного эксперимента. Все
листы и детали изготавливались на одном и том же предприятии. За прошедшее
время менялись условия работы, люди и их квалификация. Поэтому упомянутые
данные отражают усредненное влияние отмеченных факторов. Результаты отработки
листов и образцов представлены в табл. 3. Указанные данные свидетельствуют о
том, что коэффициент вариации предела прочности углепластика на разрыв находится
в интервале 9—15%.
Таблица 2
|
Наименование показателя |
Среднее значение показателя |
S, % |
V, % |
|
sр0, кгс/мм2 |
29,6 |
3,614 |
11,6 |
|
sр90, кгс/мм2 |
22,5 |
2,8 |
12,3 |
|
Е0, кгс/мм2 |
5120 |
359 |
9 |
|
Е90, кгс/мм2 |
4250 |
302 |
9 |
|
g, г/см3 |
0,9 |
0,063 |
7 |
|
Толщина d, мм |
1,52 |
0,013 |
0,87 |
Таблица
3
|
Схема укладки слоев, град |
Количество слоев |
sр, МПа |
S, МПа |
V, % |
Количество образцов |
|
0—45+45—0 |
4 |
410,0 |
47,1 |
11,5 |
348 |
|
—45+0+45—0 |
4 |
425 |
12,5 |
11,4 |
125 |
|
90+45—45—90 |
4 |
174 |
20,5 |
9,75 |
464 |
|
0+45—45—0 |
4 |
431 |
62,8 |
14,6 |
508 |
|
0+45—45—90 |
4 |
276,5 |
32,2 |
11,7 |
305 |
|
0+45—0+45—0 |
5 |
478,0 |
53,5 |
11,2 |
319 |
|
90—0—90+45—0—45—90—0—90 |
9 |
314 |
46,6 |
14,8 |
303 |
|
Продолжение табл. 3 |
|||||
|
Схема укладки слоев, град |
Количество слоев |
sр, МПа |
S, МПа |
V, % |
Количество образцов |
|
0—90—0—45—90+45—0—90—0 |
9 |
393,1 |
58 |
14,7 |
227 |
|
0+15—15—0—90—90—0—15+15—0 |
10 |
560 |
72,8 |
13,0 |
192 |
|
0—0—0—0—0—0—0—0—0—0 |
10 |
775,0 |
99 |
12,7 |
645 |
|
90+45—45—0—45+45—90 |
7 |
261,3 |
25,1 |
9,6 |
109 |
|
90—45—0+45—0—90+45—0—45—90 |
10 |
337,7 |
32 |
9,4 |
156 |
|
0—45+45—90+45—45—0—45+45 |
9 |
277,6 |
25,1 |
9,05 |
60 |
|
90+45—45—0—45+45—90+45—45 |
9 |
234,7 |
23,1 |
9,84 |
60 |
|
+45—45+45—45+45—45+45—45+ +45—45+45—45 |
12 |
145,8 |
17,1 |
11,7 |
87 |
На обнинском научно-производственном предприятии
«Технология» за ряд лет отработки технологий изготовления крупногабаритных узлов
из углепластика для космического летательного аппарата «Буран» были достигнуты
величины коэффициента вариации физико-механических свойств данного материала,
соответствующие еще более узкому диапазону 2,2—10,4% (листы), 5—14%
(шпангоуты).
Наличие таких устойчивых коэффициентов вариации
свойств листов из углепластика, изготовленных в трех различных организациях в течение
ряда лет, указывает на то, что разбросы показателей свойств упомянутого
материала весьма близки к разбросам аналогичных показателей свойств алюминиевых
сплавов (3—7%). Вследствие этого дополнительный запас прочности (в 1,25),
устанавливаемый для углепластиков, можно существенно снизить.
Обтекатель, изготовленный из листов углепластика,
полученных методом автоклавного формования, оказался на 37% легче аналогичного
обтекателя из алюминиевых сплавов стрингерно-шпангоутной конструкции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кулага Е.
С., Юникова Т. Г. Трехслойный
обтекатель из стеклопластика. Технический отчет. М.: КБ «Салют», 1989.
2. Пономарев В. П., Живилов Б. Н. Отработка технологии изготовления обшивок из
углепластика. Технический отчет № 051—113. Калининград Моск. об.: НПО
«Композит», 1988.
3. Кулага Е.
С., Кудрявцев А. М. Анализ
физико-механических характеристик трехслойных оболочек с обшивками из
углепластика. Технический отчет № 223/15-88. М.: КБ «Салют», 1988.
4. Карлашов
А. В., Инякин В. М. Рассеивание
прочности углепластиков в связи с конструктивно-технологическими
факторами. — Механика композитных материалов. 1985, № 6.
О МЕТОДОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ
СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«Космонавтика и ракетостроение» № 11, 1999 г.
Излагается
американский подход к определению трещиностойкости технических изделий. В результате
анализа данного подхода обосновывается неприемлемость его использования для
оценки срока службы изделия. Описывается отечественный подход к решению упомянутой задачи.
About Methodology of
Identifying Composite Structure Resistance to Cracks. E. S. Kulaga. The American approach to
identifying technical product resistance to cracks is stated. As a result of
analysing the given approach unacceptability of its application for evaluating
a product’s service life is validated. The
national method to solve the problem is given.
Отечественная космонавтика вступила на путь тесных и всесторонних
контактов со странами дальнего зарубежья и в первую очередь с США. Эти отношения,
будучи вынужденными, вместе с тем являются весьма прогрессивными и далеко
идущими в плане развития международного сотрудничества.
В настоящее время
Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М. В.
Хруничева разрабатывает и изготавливает для Национального управления по
аэронавтике и космическим исследованиям (НАСА) по техническим заданиям фирм США
функционально-грузовой блок (ФГБ) орбитальной международной космической станции
(МКС), а для Российского космического
агентства по техническому заданию ракетно – космической корпорации «Энергия» им.
С. П. Королева — сервисный модуль «Мир-2». Этот ФГБ будет являться первым структурно-образующим
блоком всей МКС, а «Мир-2» — частью ее российского сегмента.
При согласовании с разработчиком технического задания
на ФГБ американская сторона выдвинула вначале пожелание о том, чтобы его
проектирование велось на основе американской методологической и нормативной
базы. Это было не во всем приемлемо для российской стороны, поскольку у нас сложилась
своя, отечественная, научно-техническая школа, и, в частности, в области ракетно – космической
техники.
В течение нескольких месяцев шло активное взаимное
ознакомление, рассмотрение методических подходов ко многим вопросам, согласование
практической деятельности научно-методических школ двух великих держав в одной
из сложнейших областей, какой является космонавтика. Результаты этой работы и
опыт каждой из сторон были взаимно достаточно высоко оценены, и российская
сторона выглядела весьма достойно. Обобщение и анализ такой работы еще
предстоит сделать.
Приведем краткое
техническое содержание проходившей с участием автора дискуссии по вопросу
выбора подхода к оценке трещиностойкости сложной конструкции и его
использования в практических целях.
Американский подход к решению данной задачи,
отраженный в программе НАСА/ФлатРО
2.0 расчета трещиностойкости, состоит в том, что аналитически согласно эмпирическому
уравнению:
![]()
где
N —
число циклов действия усталостной нагрузки на исследуемую конструкцию; а — длина трещины; R —
соотношение напряжений; Д¢К — текущее значение коэффициента интенсивности
напряжений в конструкции; c, n, p, q —
эмпирические константы; f — функция раскрытия трещины; th — индекс,
указывающий пороговое значение коэффициента интенсивности напряжений; Кс — критическое значение коэффициента
интенсивности напряжений, определяется скорость роста трещины и на этом основании
— срок службы изделия.
Коэффициент
интенсивности напряжений выбирается с учетом определенной формы узла и места
его расположения в детали, причем в упомянутую программу включены аналитические
и экспериментальные параметры, отвечающие более чем двум десяткам различных
типизированных форм трещин и деталей.
Первоначальные
размеры трещины, скорость роста которой рассчитывается, принимаются равными по
величине размерам трещин, не определяемых неразрушающими методами контроля
(ультразвуковым, магнитоскопическим, рентгеновским и другими), что составляет
от нескольких миллиметров до десятых долей миллиметра (при рентгеноконтроле).
Из сказанного вытекает то, что согласно данному
подходу однозначно предполагается наличие заранее в материале трещин с
размерами, не обнаруживаемыми технологическим контролем при его производстве.
Для определения долговечности всего изделия, в этом случае необходимо тщательно
проанализировать все его элементы, систематизировать их согласно предложенной
типизации трещин, установить первоначальные размеры трещин и место их
залегания, и отсюда рассчитывать скорость роста каждой из них. Такой метод
используется отечественными и рядом зарубежных специалистов для сравнительной
оценки того или иного конструктивно-технологического состояния какого-либо
конкретного узла или детали [2, 3], а не определения долговечности всего
изделия.
Как бы тщательно ни проводились оценки
конструктивно-напряженного состояния конструкции, в ходе аналитического анализа
невозможно учесть все многообразие конструктивных форм реального изделия и характер
распределения в нем местных напряжений.
Отечественный опыт показывает, что при оценке долговечности изделия
определяющим является не расчет его трещиностойкости по типизированным формам
гипотетических трещин, их месторасположению и размерам, а следующие три
процедуры:
—
выбор
конструктивного материала, характеризуемого наименьшей скоростью роста трещин в
нем и наибольшей вязкостью разрушения;
—
надлежащее
конструирование изделия, максимально исключающее внесение в его конструкцию местных
концентраторов напряжений и значительных локальных перепадов жесткости
конструктивных элементов;
—
проведение
циклических усталостных испытаний штатной конструкции под воздействием на нее реально
возникающих нагрузок.
По каждому из указанных направлений в отечественной
практике сложился соответствующий опыт. Кратко остановимся на первом из них,
наиболее тесно примыкающем к механике инженерных сооружений.
В процессе разработки
материалов исследуются физико-химические и механические свойства создаваемого
материала, а также природа и характер его возможного разрушения. Последние
изучаются на основе использования критериев механики разрушения материала с
оценкой его локальных свойств у вершины трещины, от которых зависят вязкость
разрушения и скорость роста трещин. При совпадении показателей прочности sв и
упругости s0,2 материалов различие в значениях характеристик
вязкости их разрушения позволяет оценивать преимущества того или иного сплава.
В табл. 1 приведены
данные [6] о характеристиках сплава 0142ОТ1 в зависимости от содержания Fe,
влияющего на величину коэффициента Кv вязкости разрушения.
Таблица 1
|
Массовое содержание элементов в сплаве, % |
sв, МПа |
s0,2, МПа |
Кv, МН/м3/2 |
|||
|
Mg |
Li |
Fe |
Si |
|
|
|
|
5,5 |
2,1 |
0,03 |
0,03 |
490 |
300 |
27 |
|
5,5 |
2,1 |
0,3 |
0,03 |
483 |
304 |
31,3 |
Аналогичная картина наблюдается и при исследовании
сплава Д16 (табл. 2).
Этот момент, собственно, и явился основным источником
расхождения мнений отечественных и американских специалистов, потому что
положение о наличии первоначальных трещин уже при изготовлении изделия не
подтверждается практикой, особенно
при эксплуатации сварных
конструкций. В ГКНПЦ им. М. В. Хруничева
|
Рис. 1. Зависимость количества течей от величины 1/Q: о - бак; l - имитатор течи |
Рис. 2. Зависимость Р = 5 кГ/см2 |
в свое время было обследовано качество
изготовления порядка 200 баков ракет из сплава АМr6 на предмет обнаружения их негерметичности.
Распределение обнаруженных и устраненных течей, которые были ни чем иным как
микротрещиными, представлено на рис. 1 [4]. Из приведенной зависимости следует,
что наиболее часто встречающиеся течи отвечают области ![]() . Это значит, что размер микроканала, а следовательно, и
размер микротрещины согласно рис. 2 [5] определяются несколькими микронами, а
не миллиметрами. Но даже такие трещины в сварных конструкциях не пропускаются и
устраняются в производстве. Указанное положение подтверждено многолетней массовой
эксплуатацией таких баков в составе жидкостных ракет. Опыт массового
изготовления сварных конструкций из сплавов Амг6 показал, что при качественном
соблюдении технологических режимов их производства в сплаве и сварном шве не
наблюдается трещин даже с размерами микронного уровня. Это же подтверждено
путем микрошлифования большого числа образцов-свидетелей при изготовлении
баков.
. Это значит, что размер микроканала, а следовательно, и
размер микротрещины согласно рис. 2 [5] определяются несколькими микронами, а
не миллиметрами. Но даже такие трещины в сварных конструкциях не пропускаются и
устраняются в производстве. Указанное положение подтверждено многолетней массовой
эксплуатацией таких баков в составе жидкостных ракет. Опыт массового
изготовления сварных конструкций из сплавов Амг6 показал, что при качественном
соблюдении технологических режимов их производства в сплаве и сварном шве не
наблюдается трещин даже с размерами микронного уровня. Это же подтверждено
путем микрошлифования большого числа образцов-свидетелей при изготовлении
баков.
Таблица 2
|
Чистота
сплава |
sв, МПа |
s0,2, МПа |
d, % |
Кv, МН/м3/2 |
|
Стандартная |
521 |
346 |
13,7 |
37,2 |
|
Повышенная |
547 |
366 |
14,5 |
45,9 |
Очевидно, что в процессе производства ракетных
конструкций предпочтительно применение сплавов с наиболее высокими показателями
Кv. В работах [6—8] показано, что сравнение материалов,
а также определение влияния технологических и эксплуатационных факторов на их
свойства следует проводить путем сопоставления диаграмм, построенных в
координатах Kv—s0,2.
Рис. 3. Зависимость ![]()
1 — Амг6; 2 — МА18, МА21; 3 — Д16; 4 — 01420; 5 — В95
g — удельный вес материала
Характеристики сплавов отвечают различным областям
координатной плоскости. Ограничивающая эти области линия отражает технологический
уровень изготовления сплавов и изделий из них. На рис. 3 представлена одна из
таких диаграмм [2]. Материалы, области характеристик которых лежат ниже линии I, могут иметь низкое сопротивление разрушению;
элементы конструкции из таких материалов следует испытывать перед сдачей в
эксплуатацию. Материалы, характеристики которых соответствуют областям,
расположенным выше прямой II, обладают
высокой вязкостью (они могут работать при наличии медленно растущих трещин), но
низкой прочностью.
Приведенные данные
показывают, что разработанный и широко используемый в отечественной практике
алюминиевый свариваемый сплав АМг6 является наиболее трещиностойким и имеет
максимальную величину вязкости разрушения. Долговечность изделия, изготовленного
из этого сплава, будет определяться качеством его конструкторской разработки и
объемом усталостной отработки.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Тарасов Ю. Л., Миноранский Э. И., Дуплянкин В. М. Надежность элементов конструкций летательных
аппаратов. М.: Машиностроение, 1992.
2.
Хеккель К. Техническое применение
механики разрушения. Перев. с нем. М.: Машиностроение, 1974.
3. Кулага Е.
С. Разработка научных основ обеспечения долговечности жидкостных ракет.
Диссертация. М.: КБ «Салют», 1982.
4 Валиев Б.
Г. Исследование механики истечения пробных газов и компонентов через микроканалы.
Диссертация. М.: КБ «Салют», 1982.
5. Кудряшов
В. Г., Смоленцев В. И. Вязкость
разрушения алюминиевых сплавов. М.: Металлургия, 1976.
6. Нешпор Г. С., Андреев Д. А., Армягов
А. А. Корреляция вязкости разрушения при плоском напряженном состоянии с
механическими свойствами. — Зав.
лаборат., 1982, № 3.
7. Сверхлегкие конструкционные сплавы. Под ред. М. Е.
Дрица. М.: Недра, 1972.
«МИНИ-ШАТТЛ» В. М. МЯСИЩЕВА
(Об одном «забытом» проекте)
ТВФ № 5, 1997 г.
После запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г. и
последующих за ним удачных космических полетов с выполнением ряда научно-исследовательских
задач С. П. Королев вплотную подошел к решению проблемы полета человека в
космос. В этой проблеме одно из основных мест занимало безопасное возвращение
человека на Землю. Наряду с баллистическим спуском с применением на атмосферном
участке парашюта было предложено рассмотреть возможность возвращения человека
на летательном аппарате, использующем аэродинамическое качество. В проработке
этого варианта С. П. Королев просил принять участие В. М. Мясищева, положившись
на его опыт конструктора первых герметических кабин тяжелых самолетов. В. М.
Мясищев охотно принял предложение участвовать своим коллективом в работах этого
направления.
К сожалению, активно начатые проектные работы (проект
«48») завершить не удалось в связи с переключением лично Мясищева и коллектива
ОКБ-23 на другую тематику. Однако многое из приобретенного опыта позже помогло
специалистам авиационной промышленности в начатых работах по космическому самолету
«Буран», близкому по своему назначению американскому орбитальному кораблю «Спейс
Шаттл», что и дало основание автору настоящей статьи — одному из участников разработок
проекта первого космического ЛА с человеком в ОКБ Мясищева — назвать его
«Мини-Шаттл».
Разработка конструкции изделия по проекту «48» во
многом была облегчена тем, что в фирме был накоплен опыт разработки,
изготовления и отработки теплонапряженной конструкции крылатой стратегической
ракеты по теме «40», корпус которой из стали и титана способен был выдерживать
нагрузки при температурах до 350°С. Для проекта «48» тепловые нагрузки
определялись торможением при входе в плотные слои атмосферы и доходили до тысяч
градусов на поверхности. В этом случае не могло быть и речи об использовании
теплонапряженной конструкции без теплозащиты. Для летательного аппарата такого
типа вопрос теплозащиты и работы конструкции при больших внутренних теплоперепадах
приобретал решающее значение. Необходимые знания и опыт в проектировании,
расчетах и методах испытаний подобных конструкций тогда отсутствовали, и все
осваивалось впервые.
Схема и чертежи общего вида этого аппарата, к
сожалению, были уничтожены, по памяти облик его может быть представлен таким,
как показано на рис. 1. Безусловный интерес сохраняют основные результаты
проектно-расчетных работ по крылу, выполнявшихся автором этих строк в то время;
они и излагаются в этой статье.
|
Рис. 1. Общий вид изделия «48» |
Рис. 2. Распределение температур по поверхности
летательного аппарата |
Методы
расчета по определению температуры пограничного слоя при аэродинамическом
нагреве в результате торможения при входе в плотные слои атмосферы тогда были
уже достаточно хорошо освоены. Эти расчеты показали, что на нижней поверхности
крыла, принимающей на себя всю энергию торможения, возникают температуры ~
1500°C, а на верхней затененной поверхности ~ 1100°C (рис. 2). Исходя из этих температур и подбиралась
теплозащита. Разработкой и рекомендацией теплозащиты занимался ВИАМ. С целью
получения максимальной весовой отдачи была выбрана теплозащита из пенокерамики,
отличающаяся большой хрупкостью. Для обеспечения ее работоспособности нужно
было иметь жесткую поверхность крыла, с тем чтобы ее деформацией под нагрузкой
не разрушить очень хрупкую пенокерамику. Конструктивно она была включена в
контур крыла в виде плит, как это было выполнено позднее на «Шаттле» и на
«Буране», и устанавливалась на клею с прослойкой. Для обеспечения деформативности
наружного слоя теплозащиты торцы плиток выполнялись коническими, а пространство
между ними заполнялось кварцевой ватой, пропитанной кремнийорганической смолой.
Это упрощало одновременно технологию их установки. Испытания на плоских панелях
в струе продуктов сгорания ЖРД показали удовлетворительную работоспособность таких
стыков при отсутствии ступенек по высоте плиток.
|
Рис. 3. Распределение температур в крыле с теплозащитой на нижней панели |
Рис. 4. Конструкция крыла с теплозащитой на нижней панели: 1 – ниобиевый сплав ВН-2 (g=8,58 г/см3, ср=0,092 кал/г, l=54 ккал/м×ч×°C); 2 – теплозащита (g=0,4 г/см3, ср=0,23 ккал/кг, l=0,166 ккал/м×ч×°С)× |
Варьируя толщину теплозащиты, можно было получать различную температуру
силовой конструкции крыла и подбирать для нее нужный материал. В зависимости от
свойств материалов конструкции и толщины теплозащиты оказалось возможным получить
оптимум их суммарного веса. Для реализации этого нужно было уметь рассчитать
распределение температур по толщине крыла. Решение большого числа уравнений
теплопроводности, описывающих распределение теплопотоков внутри крыла, вызывало
большие трудности, поскольку необходимая для этого вычислительная техника
только начала зарождаться. Инженер-испытатель К. Хлопков предложил для
определения распределения температур в крыле использовать хорошо известный в
настоящее время метод электродинамической аналогии, при котором теплопроводность
и теплоемкость конструкции заменялись эквивалентными электрическими сопротивлениями
и емкостями. После расчленения конструкции на элементы и замены их
электроаналогами из них набиралась последовательная электроцепь. При подаче на
вход в нее напряжения, соответствующего наружному теплопотоку, в цепи
устанавливалось равновесное напряжение, которое в каждом из элементов цепи
соответствовало величине температуры конструкции в данном месте.
На этой основе была разработана методика оперативного
расчета распределения температуры конструкции в зависимости от ее параметров и
времени нагрева. Один из примеров результата такого расчета показан на рис. 3
для одного из вариантов рассматривавшихся типов конструкции (рис. 4).
Имея такое мобильное средство по определению температур
в конструкции, разработали ряд типовых конструкций из различных материалов и
построили графики их эффективности. Рассматривавшиеся типы конструкций и
материалы показаны на рис. 5, а
графики их эффективности приведены на рис. 6—8.
На приведенных типах конструкций, показанных на рис.
5, указаны марки материалов и рабочие температуры, при которых принимались их
характеристики и толщины теплозащиты, обеспечивавшие эти температуры. Для
слоистого пластика принималась температура 500°С и sсж = 4.5
кгс/мм2. Сейчас только появляются такие композиционные материалы на
основе алюмоборосиликатного связующего. Но уже тогда было ясно их преимущество
по сравнению со всеми конструкционными материалами. Принятые рабочие температуры
панелей крыла были оптимальными, так как определялись исходя из минимума
суммарного веса для разных свойств теплозащиты и конструкционных материалов. Построенные
зависимости приведены на рис. 6. Из графика на рис. 7, где показана зависимость
веса панелей от наружной температуры, видно, что минимальным весом до
температур 1100°С будет обладать теплонапряженная конструкция из ниобиевого
сплава ВН-2, которую до этих температур можно использовать без теплозащиты. При
температурах 1500°С эта конструкция уже должна применяться с теплозащитой, и по
весу она проигрывает. Минимальным весом будет обладать конструкция из
алюминиевых сплавов с теплозащитой.
Для носка крыла была разработана конструкция образца для тепловых испытаний
в струе ЖРД. Конструкция носка представляет собой оболочку из силицированного
графита, в которую вставляются диафрагмы из ниобиевого сплава, расстояние между
которыми заливается вспенивающейся пенокерамикой. Носок крепится к стенке
лонжерона на анкерных гайках. На эту конструкцию было получено авторское свидетельство
(№ 46061 на изобретение с приоритетом от 17.10.67 г.) на имя Е. С. Кулаги и Я.
Б. Нодельмана.
К сожалению, как
указано выше, практическая реализация этой конструкции не была осуществлена.
ПОЛИТОЛОГИЯ
ЛЕОНУ ОНИКОВУ, И НЕ
ТОЛЬКО ЕМУ. НУЖНО БЫЛО МЕНЯТЬ
НЕ СИСТЕМУ КПСС, А СИСТЕМУ ФОРМИРОВАНИЯ
НОМЕНКЛАТУРЫ
«Правда» от 27 сентября 1995 г.
В газете «Правда» от 30.08.95 г. вы дали гневную
отповедь с чертыханием М. С. Горбачеву
по поводу данного им интервью газете. В нем Горбачев пять раз осудил прежнюю
номенклатуру, а в итоге заявил, что и по сей день не знает, возможно ли было реформировать наше общество. Это последнее
и вызвало ваш справедливый гнев: «Какого же черта, в таком случае вправе
спросить любой нормальный человек, надо было «затевать» революционную, коренную
перестройку государства и общества…»
Но об этом Горбачев заявил не сегодня, а значительно
раньше. Принимая одну из многочисленных американских делегаций в конце 1990
года, он впервые сказал, что нам нужны как воздух новые идеи, оплодотворяющие
нашу практику. Из этих слов вытекает, что он творил, не ведая, что творит. А
вот тогдашний идеолог партии и его ближайший сподвижник Яковлев сейчас говорит,
что он тогда уже «прозрел» и, следовательно, сознательно разрушал партию,
Советскую власть и союзное государство. И Горбачев не стоял в стороне от всего
этого. То, что он не встал на сторону разрушителей, как это сделал открыто
Яковлев, свидетельствует о том, что он был игрушкой в руках темных сил.
Исходя из сказанного, вытекает вопрос: не кажется ли
вам странным, почему Ельцин, Кравчук, Шушкевич и Кучма, идя на выборы, говорили
одно, и придя к власти, начали самодержавно творить все в точности до наоборот
по сравнению с тем, что говорили ранее, и направленное на удушение основной
массы народа и развал нашего государства, существовавшего более трех веков?
Они подходили к завершению формирования своих
«государств» в виде бандитского государства с воровской экономикой и
опустошенной моралью общества.
А что это за сила, хотелось бы узнать, которая, как
заявил Вольский, командует и Москвой, и Чечней в их противостоянии? Нет ли
чего-то общего между этими двумя силами, воздействовавшими на президентов после
выборов и на Ельцина при событиях в Чечне?
Что, президенты тоже
«прозревали» еще раньше, как и Яковлев, а придя к власти, начинали творить уже
по своим убеждениям?
Это эпохальная
загадка современной истории, если считать ее загадкой. Говорухин, как-то
выступая по телевидению, сказал, что в общем эти силы известны. Но не нам,
смертным. Поэтому можно утверждать одно — сейчас творится великий обман всеми, кто хоть как-то
причастен к власти. Вопрос в том, как долго он может продолжаться. Как теперь
становится очевидным, отцы перестройки Горбачев, Яковлев, Медведев,
Шеварднадзе, Алиев, как он теперь заявляет, задумывали не реформирование, а
уничтожение нашего государства и грязную работу по реализации этой преступной
акции перепоручили реформаторам, что те и делают с большим рвением и громадным
старанием.
Вопрос о номенклатуре
также не прост. Вы очень аргументированно провели топологический анализ ее
структуры и сделали верное заключение о гнилости ее верхних звеньев и о честности низших. Против этого трудно
и не нужно возражать. Далее вы согласились с Горбачевым, что нужно было менять
систему, порождавшую эту номенклатуру. Но Горбачев не сказал, какую систему и
систему чего нужно менять, а вы четко определили: «…Менять систему КПСС,
сотворенную Сталиным вопреки Ленину».
Вот с этим никак
нельзя согласиться.
Система КПСС — это
уникальное явление в теории и практике
управления общественными системами, которое еще будет глубоко изучено непредвзятыми
исследователями. Система КПСС являлась чрезвычайно практичным, полезным и
эффективным способом в управлении сочетания командной распорядительности с
морально-этическими нормами управленческой деятельности, базирующейся на высоких,
научно сформулированных идеологических воззрениях. О необходимости такого
сочетания никто в теории управления не писал, и его богатый опыт, накопленный
Советским государством, с научной точки зрения достоверно не описан и не
изучен. Он оплеван лжедемократами, и эта ложь взята ими на вооружение в борьбе
за разрушение нашего государства. А руководители КПСС этому помогали.
Другое дело, что
функционирование системы КПСС сопровождалось нередко грубыми извращениями, а
подчас и просто преступлениями. Это явилось основой разнузданного критиканства
уже всего социализма. Созданные в системе КПСС управленческие аппараты, начиная
от ЦК КПСС и СМ СССР и кончая районными партийными и советскими структурами,
были наиболее оптимально организованными, достаточно четко работали, а
исполнительный аппарат был высочайшей квалификации, чего не скажешь о номенклатурном
руководящем их составе.
Поэтому
нужно было менять не систему КПСС, а систему формирования номенклатуры, без
которой никогда и никакая ни общественная, ни производственная система
обходиться не могли и не смогут. Ее необходимость детерминированно
предопределена законами управления общественных систем и социальных процессов,
протекающих в них.
Вопрос состоит в том,
какие морально-этические и профессиональные критерии будут положены в основу ее
формирования. Многие производственные фирмы США выставляют целый кодекс
требований к своей номенклатуре, но затем добавляют: «Если вы Эйнштейн или Эдисон,
то все эти требования вас не касаются, но что требует фирма даже от гениев, так
это добропорядочности».
Ленин в своих работах
выставлял следующие требования к советским руководителям: добропорядочность,
знание дела, партийная убежденность. Наши идеологические борзописцы извратили
этот тезис, и при Сталине эти ленинские требования формулировались следующим
образом: идеологическая убежденность, партийность и профессионализм. Даже
простая порядочность из них исчезла.
Наше общество стало
жить по тройной морали: думали одно, говорили и писали другое, а делали третье.
Вот именно тройная
мораль разложила наше общество и стала первопричиной всех наших бед. Она сделала
беспринципной высшую номенклатуру, вызвала противостояние власти элитарной
интеллигенции и породила пассивность и неверие широких масс властям.
На
ее базе выросли проклинаемые вами и мной «аппаратные плутни», явившиеся основой
всех наших управленческих решений за последние 20—30 лет на всех уровнях и во
всех сферах. Вы рассказали в своей книге об аппаратных плутнях в высших
политических сферах. Мог бы сослаться на другие примеры из области современной
техники. С определенностью могу сказать, что тональность наших мыслей во многом
бы совпала.
НЕМИНУЕМ
ЛИ ВЗРЫВ НАРОДНОГО КОТЛА?
«Правда» от 28.02 до 07.03.1997 г.
Почему народ стонет,
плачет, клянет власть и тем не менее голосует за нее?! Сергей Кара-Мурза видит в этом помутнение общественного разума
и «распятие им Христа». Но причем здесь древняя легенда и неуместная аналогия с
ней?! Действительно наступает религиозное помутнение даже у передовых мыслящих
людей. А Татьяна Глушкова, взявшись за труднейшее дело — опровержение подобного
утверждения («Правда пять», №№ 4 и 6), не смогла сделать это убедительно. Да и
вряд ли кто сможет это сделать из современников при той страшной лжи СМИ,
сокрытии и злонамеренном искажении фактов и объективной статистической
информации о протекающих в нашем обществе социальных процессах.
Действительно, трудно
понять, а тем более объяснить: почему в марте у Ельцина при его оценке рейтинг
был 6%, а когда пришло время принимать ответственное решение, через три месяца,
то он получил 54%. Обвиняют развернувшуюся предвыборную разнузданность в пропаганде
властей по всем СМИ. Это беспрецедентное явление, конечно, имело место. Но
только одним им объяснить этот феномен нельзя.
Позволю себе
высказать некоторые мысли, которые сформировались после многочисленных
разговоров с разными людьми на работе, в метро, электричке и просто на улице.
На мой взгляд,
вырисовываются два основных фактора, повлиявших на выбор широких масс, — это определенное
разочарование правлением оторвавшейся от народа верхушки коммунистов при
Советской власти и боязнь страшных последствий после их нового прихода к власти.
О причинах,
повлиявших на разочарование правлением коммунистов, еще будет немало написано,
когда этот период подвергнут тщательному всестороннему и объективному анализу
без политической заангажированности.
Лжедемократы ныне
акцентируют внимание только на арестах и расстрелах, царивших шестьдесят лет
тому назад и больше не повторявшихся. Это популистская аргументация весьма
далека от действительных, глубинных причин, породивших разочарование в массах,
которое в итоге и привело нас к краху.
Новое поколение так
называемых шестидесятников о давних расстрелах знало понаслышке. Люди этого
поколения, собственно, и привели нас к краху, предав в итоге забвению
социалистические принципы и коммунистическую мораль. Произошло это потому, что, придя к власти, партийно-хозяйственная верхушка
полностью переродилась и обуржуазилась к 80-м годам. Власть к этому времени
оказалась у самых худших представителей шестидесятников. Они-то и завершили
дело разрушения и уничтожения партии и государства под науськивание и с помощью
Запада (а начало все это предыдущее поколение переродившихся
партноменклатурщиков). Затем все они всплыли вновь на руководящих верхах,
представ уже отъявленными антикоммунистами, что и было их истинным существом.
Именно формы и методы
правления партноменклатуры и порожденная ими «мораль» в обществе и вызвали
разочарование в массах, а не те социалистические идеалы, по которым жили люди у
нас, которые и создали советскую цивилизацию,
так варварски уничтоженную последышами переродившихся партноменклатурщиков.
Вторая причина «христопродавства» народа вытекала уже
из сложившейся нынешней действительности. Как ни тяжело людям живется ныне, как
бы они глубоко ни сожалели о том, что потеряли с утратой Советской власти, но
им еще есть что и кого терять, случись социальные катаклизмы. Народ еще терпит.
Но многие понимают, что призови они сейчас коммунистов к власти — беды не
оберешься. Мародеры награбленное ими так просто не отдадут. Начнется стрельба
по безоружным людям. Мы уже это видели. А если и не начнется, то отстраненная
от власти буржуазия задушит народ голодом, легко перекрыв потоки продовольствия
и товаров с Запада. Ведь продовольственный рынок сейчас у нас полностью зависит
от Запада при разрушенном отечественном сельском хозяйстве и полумертвой
экономике. Люди помнят организованно развязанный дефицит, когда свергали
Горбачева, а вместе с ним и Советскую власть. Лжедемократы пугают народ о
коммунистическом прошлом именно теми пустыми полками. И это имеет большое
воздействие на людей.
Люди еще терпят — лишь бы не было хуже. Вот когда станет хуже, а не стать не может, тогда
народ скажет иное слово и неизвестно, какого Христа он тогда распнет. И власть
готовится к тому, чтобы в преддверии будущего обуздать силовые структуры, уже
сейчас пытаясь все их подчинить одному своему послушному командованию. И
никакая вера в «Святую Русь» не поможет людям и не остановит их в святом и праведном
гневе (многие уже писали об ужасе людского бунта).
Поэтому выбор народа
— не «христопродавство», а глубоко осознанный и мудрый выбор, выбор одного из
наименьших зол в сложившейся ситуации, и не считаться с этим выбором нельзя. Люди терпят, но они не видят выхода, как
выбраться из той пропасти, в какую их загнали правители. И это самое страшное.
Идет медленный перегрев народного котла. И взрыв неминуем, если события не
повернуть мирным, парламентским путем к постепенному изменению ситуации.
Велика роль депутатов Государственной думы сейчас, так
же как и последнего Верховного Совета. Не утверди депутаты в то время «беловежский
сговор», и события пошли бы совсем по иному пути. Но они совершили тогда
коллективное преступление, утвердив беловежское варварство, и совместно с
подписантами являются главными виновниками случившегося и того, чему еще
предстоит свершиться. Нынешние думцы являются последней надеждой в
предотвращении массового бунта народа, но, очевидно, весьма призрачной
надеждой. В своих бесконечных склоках они так и не поймут судьбоносной историчности
своего значения в нынешней обстановке.
Поэтому и некоторые коммунистические вожди не так
активны на публике, а ведут усиленную работу в правительстве по вхождению во
власть, пытаясь хоть как-то направить события в мирное русло. Ультрареволюционеры
обвиняют их за это в оппортунизме. Но не исползовать эту последнюю возможность
сейчас будет преступно перед теми миллионами, которые могут погибнуть в
грозящей катастрофе. Революции делают не партии и вожди, а стихийный бунт
народа, и начинается он в хлебных очередях. Сейчас в магазинах полки полные, а
сами магазины в рабочих районах пусты. Людям не на что покупать хлеб. Это
страшный предвестник страшной беды.
Татьяна Глушкова присоединилась к тем, кто ищет
объединительную русскую идею, способную стать альтернативно-объединительной, но
которая ни в коем случае не должна быть русско-националистической. И как бы мы
ни заклинали эту «объединительную» идею, если мы к ней приставим слово «русская»,
то она уже от русского национализма никак не отклеится, как бы мы словесно ни
изощрялись.
Альтернативная идея, если она должна быть объединительной,
то она никак не может быть русской в нашем многонациональном государстве, каким
был СССР и какой пока еще остается Россия.
Сложившиеся нормы общественной морали в нашем обществе
за годы Советской власти сформировали принципиально отличные от западного общества
ценности и объединили многие национальности в единый братский советский народ с
новой советской культурой, что и составило основу новой советской цивилизации.
Мы еще долго будем искать «наш новый взгляд на социализм». Поэтому воссоздание
нашей прежней советской цивилизации может явиться главной объединительной и
альтернативной идеей для всех народов и она будет подлинно интернациональной.
Мы — дети ХХ века, и главное, что
произошло в социальной области в мире за этот век, было не построение
социализма, как мы формулировали то, что мы делали, а рождение новой
блистательной советской цивилизации, базировавшейся на социалистических идеях.
Раскрытие существа и формулирование основополагающих критериев, характеризующих
советскую цивилизацию во всех ее сферах, явится именно той интернациональной
объединительной и альтернативной идеей, которую так настойчиво ищут все.
Спор о том, какой у нас был социализм и был ли он
вообще у нас построен, будет продолжаться еще долго (поскольку социализм — это
общественно-экономическая формация и она складывается в течение веков). Пока
этот спор решился на заборной дискуссии, прошедшей в Польше. На одном из заборов
Варшавы появилась надпись: «Верните нам социализм». Через некоторое время под
ней появилась другая надпись: «У нас не было никакого социализма». Затем
появилась завершающая надпись, подведшая итог дискуссии: «Тогда верните то, что
было».
ИЗМЕНЯТЬ
ЛИ НАМ ЛЕНИНСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОЦИАЛИЗМ?
«Правда», 15–18 сентября 2000 г.
Газета
«Правда» за 1—2 августа опубликовала статью Юрия Белика «Социализм еще заявит о
себе», посвященную глобальному вопросу ХХ века — анализу причин краха и развала
первого социалистического государства, просуществовавшего без малого 75 лет и
достигшего грандиозных успехов во многих областях общественного бытия.
Автор видит причину
«в недомыслии» Горбачева, Ельцина и иже с ними, с упором на то что, призвав
совершенствовать социализм, они разрушили его, а вместе с ним, следует
добавить, уничтожили и великое государство Российское, существовавшее в течение
нескольких веков.
Сведение ответа на
такой эпохальный вопрос только к этим личностям, которые всплыли в конце этой
общечеловеческой драмы к исходу ХХ века, будет крайне односторонне. Эти
личности явились могильщиками нашей общественной системы и гибели государства.
По отношению к ним нужно ставить вопрос только о том, как, почему и что
породило таких личностей, оказавшихся способными совершить это общечеловеческое
злодеяние.
В течение еще многих
веков будут изучать причины гибели первого социалистического государства, которое
строило не одно поколение советских людей, находясь в капиталистическом
окружении. А ведь этот вопрос не нов.
Француз Кобэ еще в
1848 г. поставил для себя вопрос: при каких условиях выживет социалистическое государство
в капиталистическом окружении? И ответил: только при том условии, если
капитализм откажется от военного удушения этого государства. Наш 75-летний опыт
многое добавил к этому ответу. Вместе с тем мы, современники, под тяжестью
обрушившегося на нас гнета и развала, в силу острого восприятия и полемики о
случившемся, под обломками уходящего общественного строя не сможем дать еще
всесторонней и достоверной оценки того, что с нами произошло, и причин,
приведших к этому. И отмечаемая статья является не первой попыткой в этом
направлении.
Ю. Белик указывает в
своей статье, что «…в 1921 г. Ленин заявил о коренном изменении своего взгляда
на социализм, пояснив, в чем суть такого изменения». Хорошо бы было, если бы
специалисты тщательно объяснили эти фразы В. И. Ленина, не добавляя отсебятины,
а «Правда» их опубликовала. Эти фразы сейчас во многом становятся ключевыми и
используются для околоисторических спекуляций.
Что касается
ленинской мысли об изменении взгляда на социализм, то он это делал все время в
своей практической работе под давлением ежечасных требований текущих
практических задач по строительству нового государства на социалистических
принципах. Это отказ от отмены денег, от публикации секретных царских
договоров, введение продразверстки и нэпа и многое другое.
Один из своих
взглядов по важнейшему вопросу он обсуждал с Троцким. С подведения итога этой
дискуссии он начал свое политическое завещание. Известно, что если человек
решил писать завещание, то он начинает его с того, что в наибольшей мере его
волнует. Так и Ленин начал свое завещание, в том числе и о том, что признал
свою неправоту в споре с Троцким по вопросу формы и значения планирования в новом
социалистическом государстве.
Ленин считал, что
планирование должно быть императивным, а Троцкий доказывал, что оно должно быть
детерминированным и выступать в роли закона. Ленин в первых строках завещания
согласился с этим, но на определенных условиях и до определенных пределов. К
сожалению, эти условия в должной мере не были изучены и не реализованы на
практике. Никто из исследователей не отмечает и не изучает эту сторону
завещания. Все вращаются только вокруг личностных оценок, которые Ленин дал в
этом завещании. Не место здесь рассматривать существо спора о роли и форме
планирования, хотя это весьма важный вопрос и заслуживает детального
обсуждения. Отметим только то, что поначалу детерминированность планирования на
верхних уровнях сыграла свою положительную роль на первом этапе строительства
нашего государства. Но затем эта детерминированность была доведена до административного
командования, а планирование, как оно сложилось к последней четверти существования
Советской власти, было доведено во многом до абсурда и стало основным фактором
в стагнации нашей экономики, что и привело к деградации всего общества, а затем
и к его краху. Это была одна из главных внутренних причин нашей гибели, но не
единственная.
Не менее, а может, и
более главная причина состояла в том, что начиная с середины 20-х годов ленинская
гвардия в партии начала оттесняться. Партийное руководство того времени, сделав
огромное дело по созданию Советского государства, выхолостило в партии
критическое творчество, вышло из-под контроля масс и утвердило в обществе
тройную мораль.
Ю. Белик пишет о том,
что только Горбачев жил по тройной морали. Нет! Все жили по тройной морали.
Этот мой тезис о тройной морали, бытовавшей тогда в нашем обществе, газета
«Правда» опубликовала еще в 1992 г. в моей статье, но он не нашел должного
обсуждения.
Именно перерождение партийно-хозяйственной верхушки
послужило основой гибели нашего государства, ибо она создала условия, когда
жить дальше по-старому нельзя было, а «по-новому» они захватили все то, что
было создано трудом всего народа, для чего им потребовалось уничтожить социалистическое
государство, которое они же и возглавляли. О таком перерождении верхушки и
реставрации ею капитализма предупреждал еще В. И. Ленин.
Новое состояние общества, начиная с 1985 г.,
складывалось не только под действием внутренних факторов и не столько под их
воздействием, сколько под воздействием ЦРУ США. Сразу же в 1986 г. после объявления
в 1985 г. «перестройки» в ЦРУ было создано мощное специальное подразделение, получившее
название «Управление по дестабилизации национальной обстановки в СССР». Их
аналитики, разработав по этому поводу план «М», умно оценили, что разрушить
СССР можно не военным путем, а только раскачав националистическую стихию в стране.
Развернув бурную дестабилизационную деятельность на территории наших республик,
они не ожидали получить так быстро такие потрясающие результаты в развале нашей
страны. Это произошло потому, что в стране уже был готовый переродившийся
аппарат для реализации этой цели.
Следует отметить, что в то начальное время подготовки
к развалу страны Ельцин и не помышлял еще о «российском суверенитете». Он еще
«перестраивал», а потом просил о «политической реабилитации». Тогда действовали
исподтишка главные разрушители — А. Яковлев. Э. Шеварднадзе, Г. Алиев и их
аппараты. Горбачев беспомощно барахтался между ними, боясь принять решительные
меры. Он рвался в мировое сообщество и боялся выступить против его
разрушительных действий. Главными крикунами тогда служили Г. Попов, В. Коротич,
Ю. Афанасьев и их сподвижники. Ельцина привлекли тогда к разрушительным действиям,
когда для этого потребовалась пробивная и твердокаменная личность. Для
окончательного разрушения государства уже была подготовлена почва.
Поэтому не
определенные личности стали причиной разрушения. Одной из причин явились
перерождение нашего аппарата, внедрение в жизнь общества тройной морали, полное
бездействие первичных партийных организаций и воспитанное в народе постоянное
«одобрямс» по любому поводу. В изучении истоков именно этих явлений лежит
корень познания истинных причин и существа гибели нашего первого социалистического
государства. Именно такая обстановка потребовала выдвижения на поверхность
нужных людей, и они появились из числа уже подготовленных к свершению этого
злодеяния.
В своей статье Ю.
Белик пытается убедить, что дело социализма все равно восторжествует и это произойдет
на путях конвергенции с капитализмом, а мы, в общем, социализма еще и не
построили тогда. Споры о том, что мы строили и что построили, будут
продолжаться еще долго. А конвергенция? Наступит тогда, когда на земле будет
единое человеческое общество. А до тех пор, пока целью функционирования капитализма
будут являться прибыль, нажива и всепоглощающая роль денег, никакой
конвергенции с социализмом не будет, для
которого удовлетворение общественного потребления и нужд каждого человека без
деления на бедных и богатых является главной целью.
Сейчас все более
становится очевидным, что главным признаком различия социальных систем в развитом
индустриальном обществе будет являться не форма владения основными средствами
производства, относительная величина которых уменьшается в величине общего накопленного
национального продукта, а цель и способ развития и функционирования общества, а
также способ распределения общенационального продукта.
Поставленная цель
развития общества на социалистических принципах, как показал наш опыт, родила
беспримерную блистательную советскую цивилизацию
с высочайшей научной, общечеловеческой и многообразными национальными
культурами. Ее характеристику еще предстоит раскрыть. А что наше государство погибло
даже при такой советской системе, так это еще раз свидетельствует о том, что
нельзя достигать даже благородных целей нечистыми методами, ибо какие бы
результаты ни были достигнуты, использование негодных методов для их достижения
все равно затем больно аукнется, что мы и получили. При этом будут опорочены и
сами цели, какими бы они ни были благородными.
Ну а все-таки
возродится у нас социализм в классическом старом его понимании? Позволю себе
отметить, что постановка такого вопроса беспредметна. Социализм — это одна из
общественно-экономических формаций, которые как известно, складываются
объективно. А вот советская система, функционирующая на социалистических
принципах, у нас была. Это форма государственного устройства, и о ее
возрождении следует говорить и действовать в этом направлении.
«ОБ
ИДЕОЛОГИИ ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНОГО ВРЕМЕНИ»
(из неопубликованного)
В результате безудержной разрушительной деятельности так называемых
реформаторов прекратило свое существование одно из великих государств мира,
каким являлся СССР. Государственная система, экономика страны и моральные устои
общества разрушены. Утрачены социальные ориентиры и безнравственность стала
приниматься за норму общественного бытия.
История и народы в
свое время еще воздадут должное разрушителям в полной мере за содеянное. Сейчас
необходимо привести общество хотя бы к тому уровню равновесного состояния,
которое было до перестройки, и после этого начать подлинное реформирование.
Вместе с тем, не
дожидаясь общей стабилизации, левое движение настойчиво ищет пути идеологического
возрождения утраченной «мобилизационной идеи» (по Вартазаровой). В различных
левых центрах вырабатываются новые концептуальные идеи по формированию идеологии
постперестроечного времени.
А. В. Бузгалин в
«Международной ассоциации ученых за социализм и демократию» определяет прежнее
советское общество как «мутантный социализм» и видит его возрождение на путях
преодоления государственнических и авторитарно-корпоративных тенденций в социалистическом
движении. Одновременно, при этом, он считает необходима будет смена социальной
базы социализма, основу которой составляли конформистки настроенные служащие,
работающие по найму у государства. В дальнейшем, по его мнению, социальной
базой левого движения явятся лица, обладающие способностью к ассоциированному
совместному творчеству в максимально отчужденных условиях.
В дискуссионном клубе
«Постперестройка» во главе с С. И. Кургиняном видят теоретическое и идеологическое
осмысливание будущего пути развития России и человечества на основе коммунизма,
русского национального традиционализма и государственного демократизма.
Руководитель
Российской коммунистической партии Г. А. Зюганов рассматривает возрождение
нашего общества на путях социалистической ориентации и на исторически
приемственной национально-государственной державности с необходимостью
восстановления тысячелетних государственных и духовных традиций и призывает
отказаться от идеологического доктринерства прежних мифов, подразумевая под
этим, очевидно, марксистскую идеологию.
Вместе с тем, эти
«мифы» в коммунистическом учении требуют тщательного их рассмотрения и переосмысливания
на основе тщательного анализа развития мирового сообщества в ХХ веке с тем,
чтобы эти «доктринерские мифы» были обогащены опытом пройденного пути. Сложность
такой задачи соизмерима с задачей разработки самой марксистской теории. Но
жизнь не отпускает нам времени и мы не можем ждать появления многотомных исследований
аналитиков.
Крайняя необходимость
в разработке обновленной идеологии, объединяющей общество, делает весьма
актуальной задачу концептуального рассмотрения основополагающих идей
марксисткой теории и определение пути последующего системного их рассмотрения с
тем, чтобы в обновленном виде они вошли в объединяющую интернациональную
идеологию нашего нового многонационального социалистического общества.
Рассмотрим некоторые
основные из них.
Элементы функционирования общественной системы. В политологической литературе сформулировалась модель
общества, состоящего из политической надстройки и экономического базиса. Их
функционирование и связи между ними настолько сложны и многогранны, что не
найдена общепризнанная модель адекватно отражающая эти процессы.
Облегчению этой задачи будет способствовать построение функциональной
модели общественной системы, созданной на анализе логики индивидуальной
производительной деятельности, из которого вытекает, что функционирование любой
общественной системы, включая индивидуальную деятельность, состоит из последовательного
выполнения взаимосвязанных операций или элементов: руководства, планирования, организации,
производительной деятельности и управления.
При реализации
каждого из этих элементов осуществляются все те же пять операций. Например, при
планировании осуществляется его руководство, планирование планирования,
организация планирования, процесс непосредственного планирования и управление
планированием. И так для каждого элемента. Степень совершенства
функционирования системы будет зависеть от глубины и качества научного обеспечения
каждого из перечисленных элементов и их взаимодействия.
Форма действия товарно-денежных отношений. Структурный состав и принцип функционирования
экономического базиса системы, действующей на основе товарно-денежных
отношений, аналогичны для любой системы общественно-экономической формации, а
формула цены является, как показал Новожилов, одинаковой для простого
товарного, расширенного капиталистического и социалистического производства. В
формуле изменяется только социальное содержание входящих в нее элементов в
зависимости от типа рассматриваемой общественно-экономической формации.
Данное положение
относится к нормальным условиям функционирования системы, когда отсутствуют
критические ситуации и действуют объективные экономические законы естественного
саморазвития системы. При возникновении чрезвычайных условий в любой форме
общества (международная напряженность, война, революция, стихийное бедствие и
др.) действие товарно-денежных отношений ограничивается. Степень и характер
ограничения определяются характером чрезвычайных условий, а система начинает
функционировать и развиваться по законам, определяемым характером чрезвычайных
условий.
Планирование.
Придание исключительности функции планирования применительно только к социалистическому
обществу является одним из трагических заблуждений марксизма. Планирование
является одним из видов функциональной деятельности в системе наряду с другими
элементами функционирования, осуществляемыми в любой общественной системе,
необходимость которых определяется логикой человеческих действий при достижении
тех или иных целей.
Планирование
формулирует цели, определяет средства для их реализации и устанавливает сроки
их достижения. В общегосударственном масштабе планирование появилось в
законченном виде еще в средние века, когда парламент Англии начал утверждать
бюджет королевства. Утверждение бюджета страны является первым этапом
общегосударственного планирования.
Придание функции
планирования политической категории необоснованно выводит ее из ряда необходимых
функциональных операций, которые должны осуществляться в системе. Это приводит
к непоправимым нарушениям функционирования всей системы.
Место рынка.
Противопоставление в марксисткой литературе «плановой экономики» и «рыночной экономики»
неправомерно, поскольку не существует ни той и ни другой, если экономика
развивается без кризисных ситуаций. В этом случае имеется одна экономика,
действующая на товарно-денежных отношениях, которая включает в себя:
производство, финансы и рынок. Каждая из этих сфер имеет свои функции, содержит
в себе ранее упоминавшиеся пять процессов, решает свои задачи, а все вместе
представляют собой экономический базис системы.
Рынок, как часть
всеобщей экономики, играет распределительную роль в системе. Помимо этого рынок
вырабатывает и поставляет для осуществления планирования необходимые критерии в
виде целей (спрос) и стоимости (цены). Главной сферой в экономике является производство
и рынок никогда не может иметь примата ни перед какой-либо другой сферой
экономики.
Форма собственности. Развитие производительных сил индустриально развитых
стран позволило в них сконцентрировать основную массу национального продукта в
сфере потребления. Основные средства ускоренно и постоянно обновляются и уже
далеко не представляют по своей массе основную долю национального продукта.
Это видно из
следующих статистических данных. В 1991 г., до развала страны, общенациональный
накопленный продукт у нас оценивался в 4500 млрд. рублей который распределялся
следующим образом: 40% — основные производственные фонды, 27% —
непроизводственные фонды, 15% — оборотные материальные средства, 18% —
накопление и текущее потребление населения.
Из 40%
производственных фондов доля добывающей промышленности составляет 40%.
Следовательно, собственно производственные фонды составляют всего 16%
национального накопленного продукта, которые произвели остальные 84%
национального продукта, пошедшего на различные виды производственного и
непроизводственного потребления.
Все большее
перераспределение накопленного национального продукта в сторону потребления
снижает роль и влияние форм собственности на основные средства производства.
Решающим в этом случае становится не форма владения средствами производства, а
владение овеществленной формой продукта, размер оплаты труда и качество
распоряжения основными средствами производства.
С формой
собственности на основные средства производства происходит приблизительно то
же, что произошло с властью монархов, которая из деспотической и угнетающей
силы, с которой народ боролся ранее, ныне стала превращаться в национальную
традицию, сохраняемую и чтимую народами как реликтовый элемент национальной
культуры.
Наличие в обществе
различных форм собственности представляет собой наиболее полную форму обеспечения
свободы личности не только в политической, но и в экономической области.
Неравномерность развития общественного сознания предопределяет наличие в
обществе различных форм собственности. Обобществление основных средств
производства не исключает так называемой эксплуатации труженика, поскольку в
любом обществе имеется неоплаченная доля труда, идущая на образование
прибавочного продукта, без которого невозможно осуществлять расширенное
воспроизводство.
Характер и эффективность экономики. Степень социалистичности экономики определяется не
столько формой собственности на основные средства производства и
производительностью труда, сколько степенью и величиной ее социальной ориентированности.
При отсутствии чрезвычайных обстоятельств в социалистической экономике,
функционирующей на принципе товарно-денежных отношений, прибыль не должна
являться целью производства. Она должна только обеспечивать расширенное
воспроизводство и служить средством измерения его эффективности. Целью социалистической
экономики должно оставаться по-прежнему наиболее полное удовлетворение материальных
и социальных потребностей общества, а не личное обогащение и стяжательство
производителей, обладающих различной формой собственности.
Производительность труда. Коллективистская форма труда, за счет неравномерного
сознания у ее членов, может приводить к некоторому снижению производительности.
Но возникающие при этом возможные потери с лихвой перекрываются той высокой
степенью социальной защищенности и созданием условий щадящего морального
климата, которые обеспечивает коллективистская форма труда. Производительность
труда будет расти по мере роста его фондо и энерговооруженности.
Необходимость замены
коллективной формы собственности на частную мотивируется необходимостью
повышения производительности труда производителей. Такое утверждение
недостаточно обосновано без должного статистического анализа зависимости
производительности труда от его фондо и энерговооруженности. Так, например, до
перестройки у нас на железнодорожном транспорте и в ряде добывающих отраслей
промышленности, а так же в отраслях с высокой степенью автоматизации
производительность труда была самая высокая в мире.
Насильственное
насаждение индивидуалистской формы труда является негуманным по отношению к обществу
и труженикам, поскольку увеличивает степень их эксплуатации.
Двойственность производительного труда. Труд человека, помимо двойственности в экономической
области (производительный и непроизводительный, простой и сложный), также имеет
двойственность в общественно-социальной области. Она состоит в том, что в
процессе труда производятся не только его продукты, но и вырабатываются
социальные нормы взаимоотношения людей труда, складывающиеся между ними на
основе совместного труда.
Социальные нормы
включают в себя технологические и общественные нормы взаимоотношений людей
между собой. В технологических нормах производительного труда аккумулируются
навыки обработки предметов труда и они составляют основу производственных
отношений. В общественных нормах производительного труда аккумулируются нормы
отношений к продуктам труда и общественные отношения тружеников между собой на
их основе.
Отношения, строящиеся
на основе частной собственности на продукты труда, вырабатывают в обществе одни
общественные нормы (индивидуализм), а отношения, строящиеся на основе
общественной собственности, вырабатывают принципиально отличные отношения
(коллективизм).
Отношения
индивидуализма и личной выгоды, равно как и «коллективный эгоизм» не являются
столбовой дорогой развития человечества, в силу чего переход от коллективной
формы собственности к частной собственности является реакционным,
противоестественным и отбрасывает общество в своем развитии назад.
Право наций на самоопределение. Право наций на самоопределение явилось прогрессивным
на начальной стадии развития советского государства. По мере роста и развития
страны, формирования единой экономической системы и культурного социума
многонационального общества, право наций на самоопределение превратилось в
реакционное, поскольку разрывает единую экономическую систему, составляющую
основу общества, культурную общность народов и значительно усложняет
общечеловеческие контакты людей разных регионов некогда единой страны.
Интернационализм, а
не национальная обособленность, должен стать государственной
и национальной политикой каждого народа, живущего в едином
общественно-экономическом и территориальном пространстве. Благосостояние
каждого народа определяется не величиной политического суверенитета его руководства,
а качеством его экономической и социально-культурной базы, чего нельзя
обеспечить на основе самоизоляции народов, между которыми сложилась
многовековая человеческая общность.
Классовая борьба и диктатура пролетариата. Эти понятия являются стержнем революционного содержания
марксистской идеологии. Следует полагать, что в настоящее время в развитых
индустриальных странах они выполнили в основном свою историческую миссию. В
большинстве этих стран свергнута или ограничена монархия, обеспечена
парламентарная форма правления с равным и всеобщим избирательным правом.
Установлен 7—8 часовой рабочий день с приемлемым уровнем зарплаты, оплачиваемым
ежегодным отпуском, а также пенсионным обеспечением. Обеспечены основные социальные
потребности основной массы трудящихся в образовании, культуре и сохранении здоровья.
В той или иной мере
реализовались мечты как социалистов-реформаторов, так и
марксистов-революционеров, и следует признать, что в развитых индустриальных странах,
включая и постсоциалистические, эпоха пролетарских революций завершается. На
современном уровне состояния общества классовая борьба должна протекать в
парламентарной форме и не приводить к диктатуре какого-либо класса.
Ныне, спустя полтора
столетия после формулирования и использования на практике, теория классовой
борьбы и диктатуры пролетариата, при чрезвычайно развитых мировых
производительных силах и средствах коммуникаций, завершающаяся классовой борьбой и диктатурой пролетариата,
приведет к межгосударственному противостоянию с огромными разрушительными последствиями
для всего мирового сообщества. Дальнейшее межгосударственное противостояние на
непримиримых классовых позициях и враждебной идеологии может уже привести к
уничтожению всего живого на планете.
Обновленная коммунистическая партия. Эта партия должна явиться партией нового типа с обновленной
идеологией и новыми организационными формами в условиях многопартийности.
Новая идеология,
учитывающая опыт мирового развития за последнее столетие, должна явиться идеологией
гражданского согласия, основывающейся на коммунистической морали, национальной
государственности, демократическом патриотизме и носящей интернациональный
характер.
Организационные формы
работы партии должны исключить возможность образования общественной среды и
условий, в которых выросли преступные кадры, «строившие социализм с грязными
руками», а последующее поколение их продолжателей разрушило первое социалистическое
государство, мировую социалистическую систему и советскую цивилизацию.
Теория управления в социалистическом обществе. Научное
обеспечение руководства, планирования, организации, производительной
деятельности и управления, базирующееся на кибернетических принципах, теории
игр, информации, теории систем, математической статистике, психологии и многих
других научных дисциплин, приобретает все большее значение.
В советское время в
области управления сформировалась теория «управляющих и управляемых систем»,
которая оперировала только описательными критериями и не имела под собой
никакой математической базы с количественными величинами измерений социальных
явлений. В этой теории было придано громадное значение «управляющей системе»,
как одному из важнейших звеньев социалистического общества. Затем, уже в
перестроечное время, ученые создавшие эту, с позволения сказать, теорию очень
быстро перевернулись на сто восемьдесят градусов, нарекли ее «административно-командной
системой» и начали нещадно ее громить, прекрасно понимая, что без командного и
административного управления не может функционировать ни одна общественная
система.
Поэтому, наряду с
разработкой идеологических основ дальнейшего развития нашего общества,
предстоит не менее важная задача формирования подлинной науки управления в
социалистическом обществе, не деля его на «управляющих и управляемых», а
рассматривая его как единую систему, состоящую из различных структурных ячеек,
каждая из которых выполняет свои функции.
Изучение
функционирования и управления в обществе будет наиболее плодотворным, если его
проводить с использованием основополагающих кибернетических принципов.
Заложенная в них системная концептуальность придает им изоморфичность и
позволяет использовать при исследовании любых технических и общественных
систем.
Изоморфизм основополагающих кибернетических принципов
при исследовании систем.
К основным из них,
широко используемых при исследовании технических систем, можно отнести следующие
положения, которые применимы и при исследовании общественных систем.
1. Рассмотрение функционирования системы ведется при одновременном
и взаимовлияющем воздействии внешних и внутренних факторов.
2. Для обеспечения изучения системы строится статическая
модель системы, отражающая ее внутреннюю структуру, и динамическая модель, отражающая
ее внутренние и внешние связи.
3. Структурирование системы производится на основе
анализа характера и состава функционирования ее звеньев и всей системы в целом.
4. Построение статической структурной модели системы
производится на основе метода блокировочного включения элементов, выделенных
при анализе, обеспечивающего сохранение логики ее функционирования.
5. При структурировании системы используется принцип
информационного кольца с выделением прямых и обратных связей.
6. Составляется математическое описание динамической
модели, с помощью которого изучается поведение системы при различных внешних и
внутренних воздействиях.
7. Определяются и выделяются условия поддержания системы
в динамическом равновесии в зависимости от характера и динамики изменения внутренних
и внешних воздействий.
8. Устанавливается необходимость, величина и области
резервирования в системе для поддержания ее функционирования в заданном режиме.
В процессе
исследования большое значение имеет адекватность принимаемых к изучению моделей
систем. В настоящее время модели строятся не на функциональном, а на предметном
принципе. Это касается в основном общественных и организационных дисциплин. Эти
модели строятся в плоскостном изображении в двумерном пространстве. Это снижает
возможности использования указанных ранее кибернетических принципов. Более
полно будет отвечать этим требованиям пространственная трехмерная модель
системы.
Разработка методов
построения таких моделей является актуальной задачей, решение которой обеспечит
широкое применение кибернетических принципов в изучении общественных систем.
Разработанная
идеология гражданского и интернационального согласия совместно с научно
разработанной теорией управления в общественных системах, явятся достойными
продолжателями теории классовой борьбы и диктатуры пролетариата в условиях
развитых мировых производительных сил, будут не менее революционными по своему
содержанию и неразрушительными по форме. Они составят основу цивилизованной
морали общества, достойной людей XXI века.
ЭПИЛОГ
Появлению этой книги
предшествовало рассмотрение ее рукописи группой ветеранов нашего предприятия в
составе Бахвалова Ю. О., Миркина Н. Н., Никитина О. Д., Шехояна А. С., Соколова
Б. А., Тимм А. А. и Гринберга С. И. Все
члены этой группы прочитали рукопись и дали хорошие советы по ее дополнению
и некоторым уточнениям. В заключение ими был составлен прекрасный отзыв, весьма
лестный для автора. Признание коллег по многолетней совместной работе является
для меня самой дорогой оценкой и много значит и я им приношу свою глубокую благодарность.
Эта книга является в
какой-то мере юбилейной. Если бы не 50-летие КБ «Салют» то она бы вообще не
появилась. В ней собрано большое число индивидуальных и групповых фотографий
наших нынешних и уже ушедших заслуженных сотрудников.
Сбором этих
фотографий, идентификацией фамилий на групповых фотографиях и подготовкой их к публикации была занята большая
группа наших сотрудников во главе с начальником отдела кадров Майоровым Ю. М. и
его заместителем Египцевым В. А.
В архивах Космического Центра, КБ «Салют»,
заводского музея и фотолабораторий были подняты сотни личных дел и из тех, где
сохранились, изымались фотографии. Далеко не
во всех они сохранились о ком следовало бы вспомнить. В архивах большая работа
была выполнена под руководством Соиной В. К. и Гаврюшкиной Н. А.
Фотографии, которые
сохранились, подверглись умелому реставрированию нашим кадровым художником
Будкевичем Б. Б. Большую работу по многократному их перефотографированию
провели сотрудники фотолаборатории под руководством Спирина С. А. и Колюбакина
А. С.
Всей этой
многочисленной группе сотрудников автор выражает глубокую признательность от
лица всех тех, фотографии которых найдены и помещены, а так же приносит
глубокое извинение всем тем, фотографии которых не вошли в это собрание по
причине ограниченного места в книге.
Эта книга, как упоминалось,
написана как личные воспоминания автора. Такие же воспоминания могли бы
оставить многие наши кадровые сотрудники, которым тоже есть что и о ком
рассказать. Поэтому, их воспоминания также следовало бы собрать. В силу этого я
обращаюсь к нашим молодым коллегам собрать и записать такие воспоминания и
продолжить летопись о нашем предприятии начатую Павлом Яковлевичем Козловым и
данной книгой.
В заключение автор
выражает искреннюю признательность и благодарность Генеральному директору
Космического Центра Анатолию Ивановичу Киселеву, прочитавшему и тщательно
проработавшему рукопись книги. Составленные им многочисленные письменные
замечания и предложения могли бы составить содержание новой книги и, к
сожалению, только небольшая их часть могла быть внесена в текст уже подготовленной
к изданию книги, поскольку Анатолий Иванович смог заняться этой книгой только в
новогодние каникулы 2001 года.